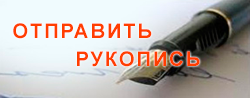Истолкование истока у Ф. Розенцвейга и М. Хайдеггера
- Авторы: Литвинов М.Ф.1
-
Учреждения:
- Воронежский государственный университет
- Выпуск: Том 26, № 3 (2022): РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ ФРАНЦА РОЗЕНЦВЕЙГА
- Страницы: 557-571
- Раздел: РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ ФРАНЦА РОЗЕНЦВЕЙГА
- URL: https://journals.rudn.ru/philosophy/article/view/32106
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2302-2022-26-3-557-571
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Исследуется проблема истолкования такого предельного для философской мысли концепта, как исток, фундирующего экзистенциально ориентированные построения Франца Розенцвейга и Мартина Хайдеггера. При всех пересечениях и совпадениях, сближающих диалогическое и бытийно-историческое мышление, аргументируется принципиальное различие интепретаций, сообщаемых истоку в «Звезде избавления» и в «Бытии и времени». Такое дифференцирование позиций определено необходимостью как нейтрализовать романтические коннотации, выставляющие исток (Ursprung) в качестве бездны (Abgrund) , так и методологически прояснить возможность не столько помыслить, сколько практически утвердить ограниченное и не замкнутое на самом себе интегральное бытие, включающее в себя измерения сущего и должного. Истоку забвения и возобновления, навязываемого хайдеггеровской герменевтикой фактичности, противопоставляется розенцвейговский исток «вечного сверхмира», реконструируемого с оглядкой на религиозно-философские интуиции Германа Когена и его анализ бесконечно малой величины как принципа реальности. Позицию Розенцвейга, нацеливающую на коррелятивное рассмотрение чисто логического содержания инфинитезимальной величины (почти-Ничто) и экзистенциального переживания конечности всего сущего, выгодно отличает отсутствие односторонней направленности на припоминание, где за-ступание хоть и декларируется, но тут же сдерживается бытием-к-смерти. Как следствие, розенцвейговский диалогизм оказывается свободен от переоценивания того, что в трактовке Хайдеггера называется решимостью, на деле мало чем отличающейся от оцепенения в просвете бытия. Актуализация в собственном учении когеновской проблемы реализации бесконечной задачи позволяют Розенцвейгу пойти дальше бытия-к-смерти в сочленении траекторий исходных элементов в истинный гештальт.
Ключевые слова
Полный текст
Мысль об истоке, если подходить к делу формально-логически и исторически, знаменует поворот от традиционной метафизики к экзистенциальному вопрошанию. Исток не есть субстанция, вбирающая всё в свою орбиту, окаймляющая Всё туманом Ничто. Исток, строго говоря, не есть что-то, что могло бы в качестве причины привести к отличному от него нечто, произвести безразличный по отношению к нему эффект. Исток не есть реальное основание, с опорой на которое то или иное здание, та или иная конструкция могли бы выстоять, выдержать натиск всевозможных пертурбаций существования. К истоку возвращаются и припадают, стремясь вновь обрести жизненные силы. В истоке освящается повторение, размывающее почву под казалось бы надежно стоящими постройками и устойчивыми установлениями. Исток является предельным концептом. Именно в этом и заключена его притягательность для Франца Розенцвейга, не доверяющего академическому философскому мышлению, что возводит стену мёртвой абстракции перед живой действительностью. Однако неопределенность и многозначность этого понятия, помимо оживления дискурса, тащит за собой ворох тёмных, легко поддающихся романтической обработке коннотаций, среди которых Ursprung (нем. «исток») с присущей ему утвердительностью теряется и становится практически неотличим от Abgrund (нем. «бездна»). Та естественность, с которой в интеллектуальной немецкой культуре двадцатых годов ХХ века обозначился переход от истока к экзистенциальной бездне, ставит перед нами задачу, во-первых, осмыслить специфику диалогической трактовки этого основополагающего для Розенцвейга понятия, а во-вторых, соотнести её с фундаментально-онтологическим видением бытийного начала всего сущего у Хайдеггера.
На пути к Новому мышлению
Новое мышление, возвещаемое Розенцвейгом, немыслимо вне обращения к переживанию, доступ к философскому прояснению которого открывает Дильтей на пороге ХX века. И всё же не одному Дильтею обязан Розенцвейг. По крайней мере, если и обязан, то не так, как Хайдеггер.
Обновление мышления, в любом случае предполагая синтез, может идти либо от содержания переживания, несоответствующего сформированной картине мира, либо от мышления, ставящего критический для себя вопрос об обоснованности производимого им знания. Программа обновления мышления формулируется Розенцвейгом в связи с продвижением сразу по двум данным направлениям. Так, с одной стороны, вплоть до сакрального события осенью 1913 года, доминирующее настроение Розенцвейга можно было бы обозначить как нейтральное, что и используется Розенштоком-Хюсси как довод, подбадривающий друга сделать наконец выбор в пользу христианства. Такая эстетическая нейтральность характерна для юного Розенцвейга неогегельянца, терзаемого жаждой всепоглощающего знания о самых разнообразных исторических и культурных, но, по его же собственным свидетельствам, мёртвых формах. Нейтральность жажды знать находит своё разрешение в переживании близости Бога в связи с празднованием Йом-Кипур, что предотвращает его обращение в христианство и становится своего рода отправным пунктом на его собственном пути к Избавлению [1—2]. С другой же стороны, включаясь в работу по изучению иудаики под началом Германа Когена, он усваивает трансцендентально-диалектический метод в части истолкования истока. Неокантианский методологический принцип истины, одним и тем же способом применяемый в автономных по отношению друг к другу областях теоретического познания, практического произволения и эстетического созерцания, позволил Когену, не заимствуя при обосновании знания ничего извне, открыть фрактальное движение внутри чисто логического содержания, которым в научном идеализме предстаёт инфинитезимальная реальность. Диалогист Розенцвейг, отталкиваясь от неокантианской трактовки бесконечно малой величины, с первых страниц «Звезды Избавления» связывает новое мышление со строгостью математического описания того, что разнообразно в своей фактичности. Если Коген ориентирован на математику, то Розенцвейг — на своеобразную физику, которую можно было бы назвать экзистенциальной или диалогической. «Именно Коген открыл, что математика — это органон мышления именно потому, что выводит свои элементы не из пустого Ничто, единого и общего нуля, а из специфического, дифференциального Ничто, настраивающегося на каждый искомый элемент. Дифференциал сочетает в себе свойства Ничто и Нечто: это Ничто, которое указывает на соответствующее ему Нечто, и одновременно Нечто, еще дремлющее в утробе Ничто» [3. С. 51—52]. Как раз строгость математического описания, будучи сочлененной с критикой «философии Всего», которая на уровне начала и цели не может не упираться в Ничто, ведёт мысль Розенцвейга к той утвердительности по отношению к жизни, что становится основным мотивом в развитии им неокантианского понятия истока. Экзистенциальный момент переживания в таком случае предстаёт уже не в качестве всего лишь сопутствующего деятельности Первомышления, производящего знание о мире. Он становится важной составляющей интегральной архитектоники бытия, в которой сфера чистого познания составляет только одну из множества содержательно автономных сфер. Так когеновская проблема реализации идеала1, исполнения бесконечной задачи находит своё продолжение и завершение в философском проекте Розенцвейга. Поэтому большим преувеличением было бы считать, что Розенцвейг начисто порывает с научным идеализмом своего учителя, или же, как это ему самому представляется, научный идеализм отбрасывает уже сам Коген в собственной философии религии. Конечно, утвердительность истока, его нацеленность на претворение в Нечто выводят мысль Розенцвейга за рамки интернализма когеновской школы, отменяя принципиальную непреодолимость границы между внутренним и внешним. Однако, и для Когена этот интернализм никогда не был самоцелью, но только методологией критического исследования, на которой он и сосредотачивает всё свое внимание, подготавливая выход к интегральной целостности бытия, объемлющего и сущее, и должное. Что касается Розенцвейга, на базе критического идеализма он реализует уже не столько переход от дифференциального почти-Ничто к Нечто, сколько переход от замкнутости исходных элементов формирующейся системы к их коррелятивному сосуществованию, связывая религиозно-философскую установку своего учителя с фактичностью существования, но главное, венчая её Избавлением. Переживание, врывающееся извне, и строгость обоснования, идущая изнутри, соединяются у Розенцвейга в единый жест экзистенциально-ориентированного философствования, не пренебрегающего логикой сочленения исходных элементов в жизнеспособную реальность продолжающегося, возобновляющегося и, подчеркнём, истинного гештальта.
Розенцвейг, замышляя выйти к христианству через усвоение веры своих предков, встаёт на тот же путь, что и Гегель в своей «Феноменологии духа». Это путь, ведущий к истине действительного гештальта. Но получается так, что намеченное в качестве цели христианство приводит его к отправной точке, к иудаизму. Здесь феноменология духа как выражение, описывающее направление философствования, остаётся полностью релевантным, но теперь им обозначается и «спуск к матерям», а не однонаправленное прогрессивное восхождение от абстрактного к конкретному. Своеобразие розенцвейговской феноменологии духа заключается, таким образом, в диалогизме, связывающем вечный путь (христианина) и вечную жизнь (иудея), также предполагающую специфический итинерарий своего пресуществления из бессмысленной в неувядающую. «Только возвращаясь назад, она изменяется, двигаясь вперёд, она остаётся той же самой»2. В этом направлении повторения, открытого Константином Констанциусом, следовали Климакус с Анти-Климакусом3, таким путём вечного возвращения шёл Заратустра4, спускаясь с горы, а затем поднимаясь в гору. И опыт философствования Кьеркегора с Ницше является здесь не просто веянием времени, отправным для следующей за ним мысли Розенцвейга. Он существенен, поскольку, не порывая с античным логосом, приобщает к неисчерпаемости жизни: припоминание (обозначим эту позицию именем Сократа) не отбрасывается, но децентрируется обновляющим повторением (эту позицию условно обозначим именем ап. Павла5); ограниченность жизненных форм в большом круге возвращения размыкается в обновляющую космос бесконечность тех же самых жизненных форм, но живых уже иначе. Этот мотив корреляции эстетического и логического, вкупе с недоверием к постулативной метафизике, мотив, соотносящий переживание с трезвой и свободной мыслью, не столько сочетается в концепции Розенцвейга с когеновским пониманием принципа истины как истока, сколько уже обнаруживается в нём без каких-либо лишних уточнений и ухищрений. Ursprung как исполняет сущее, так и подтачивает становящиеся ригидными формы этого сущего; движется как от дифференциального Ничто к Нечто, так и в обратном направлении.
Что касается Хайдеггера, он действует более односторонне, однозначно предполагая начало своего предпосылочного философствования в эстезисе, а не в логосе, указывая тем самым на несостоятельность неокантианства с его обращенностью к методологической проблеме обоснования знания, в первую очередь естественно-научного, математического естествознания. Очищая дильтеевский момент переживания от всевозможных искажающих его напластований, будучи вынужденным двигаться в этом плане назад к истоку, к исходной эстетической настроенности, Хайдеггер закрывает для себя возможность центростремительно двигаться вперёд, застревая на аутентичном, но аутичном способе существования, определённом к самости бытием-к-смерти. Порывая с беспредпосылочностью своего учителя Гуссерля и ориентируясь на дильтеевский вариант философии жизни, Хайдеггер замыкает существующего в клетке психологизма, безусловно расширенной благодаря онтико-онтологической дифференциации и бытийному зазору, но все такой же сковывающей бытие человека небытием.
Экзистенциальная составляющая концепции истока
Фундаментальным переживанием, требующим философского прояснения, и в этом Розенцвейг с Хайдеггером далеко не новаторы, является переживание смерти. Как для одного, так и для другого, обращение к теме смерти определено не столько её злободневным характером, сколько присущим ей качеством условия, инициирующего непраздный философский акт. Смерть ближнего потрясает; принятие конечности своего собственного бытия освобождает.
Экзистенциальная трактовка смерти предполагает интуицию истока. Стремящийся к тому, чтобы совпасть с нулём, исток ничем не отличается от предела экзистирования, с которого начинается существование сущего и к которому это сущее вынуждено в итоге вернуться. Благодаря дифференциальному исчислению мысль получает возможность подойти ещё ближе к прояснению того, что исключает всякое мышление, доподлинно знающее и несомненно любящее своё существование. Логика платоновского диалога «Федон» (см. [6]), хотя и с бóльшим трагическим накалом, продолжает себя в философии начала ХХ века, увязывая с истоком ту позитивную беспредметность, которая, несмотря на весь порождаемый ею ужас, обещает новое рождение. Такого рода утвердительность мышления о смерти характерна и для Розенцвейга, и для Хайдеггера. Впрочем, она присуща преимущественно всей философской культуре того времени, изживающей нигилизм и метафизику абсолютного Ничто. Розенцвейг следует данной интуиции, физически не располагая возможностью отмахнуться от смерти, будучи вовлеченным в жестокий театр военных действий первой мировой. Опыт войны перерастает у него в предъявляемое философской мысли требование не отворачиваться от прискорбного события умирания в стремлении достичь точки зрения вечности. Так смерть для него претворяется в Нечто. «Мы не хотим философии, которая присоединится к свите смерти и будет обманчиво утверждать нас в вечности своего господства, забивая нам уши всеединой музыкой своей пляски. Мы вообще не хотим обмана. Если смерть есть Нечто, никакая философия не должна заставлять нас отворачиваться от этого, утверждая, что она делает своей предпосылкой Ничто» [3. С. 35]. Розенцвейг, вспоминая раввинистическую традицию, доходит вплоть до того, чтобы смерть охарактеризовать библейским «Весьма хорошо!». Хайдеггер, в свою очередь, в принципе выстраивает всю свою аналитику конечного присутствиеразмерного сущего вокруг непредметности зияющего бытия, как ему представляется, утверждающей к подлинному и самостийному существованию. Смерть, согласно Хайдеггеру, есть наиболее своя, собственная для каждого из нас возможность, уклонение от реализации которой ведёт к безликости. Поэтому нет ничего удивительного в том, что именно Хайдеггер, а вовсе не Кассирер, предстал Розенцвейгу в качестве полноправного преемника когеновской философии истока. Его замечание о том, что эрос — предел, с которого существование начинается, но ещё сильнее танатос — предел, которым существование заканчивается, являют неискоренимое стремление метаэтической самости к утверждению её собственного содержания могло послужить основанием для такой оценки. Эти переклички между новым мышлением и обновлённой метафизикой обнаруживают родство этих концепций, хотя бы на уровне исходных мирровозренческих позиций, общей экзистенциальной тематики (см. [7]).
Ко всему прочему, Розенцвейга с Хайдеггером объединяет темпоралистическое видение проблемы единства экзистенции. Аналитика Dasein показывает, что отлаженная механика временных экстазов, одновременно расходящихся и сходящихся в точке настоящего того специфического сущего, коим является человек, находит целостность его экзистенции не в сумме отдельных частей, по крайней мере одной из которых всегда будет недоставать при таком механистическом подходе, но в самом истоке временения и бытия. Учение Хайдеггера о времени вполне созвучно попытке Розенцвейга придать значимость исторической целостности человеческого существования, в силу различных обстоятельств оказавшейся к началу ХХ столетия разъятой в угоду прогрессистского образа будущего. Трактовка чуда, которую мы находим в «Звезде Избавления», возвращает смысл прошлому, без чего, согласно Розенцвейгу, нет и не может быть будущности. Чудо как знак и сбывшееся пророчество, эстетически поддерживая интегральность экзистенции, сближает экзистенциализм с диалогизмом, однако вместе с тем заявляет о существенном расхождении между ними. В первом темпоральная целостность существования санкционирована бытием-к-смерти, тогда как во втором речь идёт именно о чуде, правда лишённом всякого мистического подтекста. Различие определяется тем, что в своём возвращении к истоку Dasein не может не впасть в оцепенение от столкновения с небытием. Здесь решимость как способность взвалить на себя своё бытие и выстоять в его просвете, ничего не прибавляя к осознанию конечности существования, ещё лишена какой-либо силы выйти из этого оцепенения, нуждаясь для этого в онтическом за-бывании. Между тем как чудо, связывая прошлое с будущим в конкретном моменте настоящего, отдавая должное смерти, но вовсе не зацикливаясь на ней, указует в сторону свершения (вечной) жизни, причастность к которой поддерживается институционально в переживании сакрального смысла (религиозных) празднеств6 сообществом (верующих).
Несущий избавление исток и дегенерация
Розенцвейг связывает узами корреляции чистоту истока (утвердительность того, что будучи бесконечно малым несводимо к нулю) и фундаментальность переживания человеком конечности всего сущего. Это означает только то, что с одной стороны, природа инфинитезимальной реальности не может быть рассмотрена как причина претерпевания сущим смерти; с другой стороны, переживание конечности сущего не может быть представлено причиной выхода к тому чисто логическому содержанию мышления, что позволяет осуществить процедуру обоснования знания. Следуя этой установке, Розенцвейг избегает и отвлечённого панметодизма, в котором обычно обвиняется неокантианец Пауль Наторп, и укоренённого в бытии психологизма, из соответствующей настроенности претерпевания ужаса извлекающего свою онтологическую фундаментальность. В этом плане «Звезда избавления», несмотря на подчёркнуто религиозную тематику, по своему содержанию действительно является текстом скорее для философов и культурологов, нежели для верующих, поскольку привычная для теологии схема рассуждения от трансцендентного в нём не используется. В тексте отсутствует ориентация на запредельное и утешающее Всё. «Страх земного должен быть снят с человека только самим земным. Но пока человек живет на земле, он должен пребывать в страхе земного. Философия, однако, обманом лишает его этого долженствования, растилая вокруг земного лживый туман своей идеи Всего» [3. С. 34]. В этой цитате на себя обращает внимание момент соизмерения должного и того сущего, которому всегда далеко до соответствия идеалу. Принятие своей природы как конечной, согласно Розенцвейгу, есть нравственный акт, утверждающий в сущем нечто от бесконечной задачи в качестве реализуемой. Конечность всего сущего, будучи признанной в качестве фундаментальной проблемы и осмысленной в рамках концепции истока — «Весьма хорошо», сдвигает с мёртвой точки замкнутое на самом себе бытие мира, человека и, конечно же, Бога.
Обозначенный примат практического в диалогизме Розенцвейга, воспринявшем многие методологические установки Когена, вовсе не означает поглощения практическим разумом содержания теоретической его ипостаси. Романтизм субстанциалистского истолкования неприемлем равно как для Когена, сторонника концепции религии в пределах разума, так и для Розенцвейга, старательно устраняющего малейшую мистическую подоплёку из таких, казалось бы, пронизанных сверхъестественным реальностей, как творение, чудо, откровение, любовь Бога к человеку, благодать, спасение. Примат практического подразумевает в данном случае не выведение сущего из должного, но корреляцию сущего с истиной в качестве идеала. Без этого соотношения познавательный процесс попросту лишён движущей силы. Одних только регулятивов для него ещё недостаточно, необходимо нравственное побуждение к тому, чтобы, ориентируясь на эти регулятивы, продвигаться в познании вперёд, деконструируя становящийся привычным мир знания. Примат практического в диалогизме Когена и Розенцвейга не означает сведения бытия к становящемуся духу, практически определяющемуся своим собственным законом. Для первого критицизм ограничен сферой знания о мире и не посягает на его автономное существование, для второго смерть неискоренима. И несмотря на эту трагическую мудрость философии, новое мышление прокладывает путь далее того предела, который естественным образом установлен сущему.
С помощью корреляции неокантианского принципа реальности и экзистенциального переживания пограничной ситуации Розенцвейг извлекает сферу сущего из отношения противопоставления должному. Сущее учреждается в качестве поля актуализации должного. Можно было бы даже высказать предположение о соотношении, с одной стороны, такого рода пред-должного, которое играет роль аттрактора для металогического сущего (В=А); с другой стороны, того вырывающегося из глубин человеческой самости (B=B) пред-должного, что приводит через этос непротивления смерти к вечной жизни7, или к проявляющемуся в этой корреляции всё более и более интенсивно духу Святости, как его определял Коген. «…Только принятие своего этического наследства и дара делает человека полностью человеком. И в случае с миром лишь полнота, разветвленность и непрерывность его гештальта, а не только тот факт, что его можно помыслить с помощью присущего миру логоса, делает мир миром сотворённым. Так и Бог не приобретает жизнь только потому, что он имеет собственную природу. [Чтобы домыслить Бога,] необходима ещё божественная свобода» [3. С. 49]. Добавим, необходима ещё божественная свобода, претворяемая в деятельное участие по отношению к сотворяемому им таким образом бытию. Иными словами, элементов и природ этих элементов недостаточно для философской реконструкции живого универсума. Отсюда тот самый метауровень по отношению к этическому в человеке, логическому в мире, физическому в Боге как индикатор не только того, что учреждает себя вне и помимо, соответственно, этики, логики, физики, являя абсурдность замкнутого на себя бытия человека, мира и Бога, но и того, что обещает последующую чудесную связь исходящих от первоэлементов траекторий. «Мета-» по-волюнтаристски указывает на решимость, произволение, напор, которые сами по себе способствовали бы разве что беспределу, хаотической дезорганизации всего сущего в нравственном отношении. Однако, пересекаясь, будучи траекториями свободных и естественных движений элементов, они образуют общую фигуру, творящую должное и вписывающую его в сущее. Решимость и напор, но главное, произволение, сменяющееся участием8, представляя, соответственно, ряды человеческого, мирского и божественного, сталкиваясь со смертью как преградой, в соотношении друг с другом учреждают новое измерение у мира, становящегося сотворённым. «Вспомнив Когена, можно будет, как нам представляется, сказать: произошло осознание того, что имеет смысл думать не только о том, что есть, но и о том, что должно быть. Решимся утверждать, что Творение означает у Розенцвейга возникновение у Мира измерения должного» [12. С. 178].
Примат практического в концепции Розенцвейга вкупе с чистотой логики истока является эффектом последовательного разворачивания критического метода исследования9, позволяющего перейти от автаркичности поначалу несвязанных элементов к творению, а далее, к откровению и избавлению, принципиально ничего не прибавляющих к исходным природам элементов: решимость не перестаёт быть решимостью самости в сострадании и томлении; напор не утрачивает своей силы в порождении всё новых и новых индивидов; своеволие не прерывается в любви к сотворённому. Так через Когена Розенцвейг в своей системе проясняет рациональную интенцию Маймонида принять аргументацию по поводу существования Бога, даже если исходным пунктом её является допущение о равноисходной Богу вечности мира.
У Хайдеггера если и есть момент долженствования, то он связан с необходимостью быть подлинно, предписанной заведомо состоявшимся онтологическим отношением. Этот момент долженствования сам по себе ещё не вносит ничего нового, безусловно, соблазняя разомкнутостью, однако упирающейся всегда в одну и ту же ситуацию падения конечного присутствиеразмерного сущего в безликость, из которой зов совести вынужден его постоянно вызволять. Кроме метаэтического требования «быть подлинно» (B=B) в хайдеггерианском проекте отсутствует то, что могло бы действительно оживить фактично существующее и потенцировать его к [вечной] жизни, вырвав из оков интравертивного аутентичного бытия. Траектории метаэтической природы Dasein не с чем пересечься: она сама себе и мир, и Бог. Присутствиеразмерному сущему фундаментально чуждо сопереживание тому, что сосуществует с ним на равных или наравне в мире. Кроме онтологически выверенной нравственности долга заботиться о своем собственном бытии, экзистенциальная аналитика упускает из виду то, что могло бы поставить акцент «не на достоверность внутреннего опыта, а на открытое вовне существование в своей религиозной общине» [12. С. 172]. Безусловно, внутренний опыт, о котором можно было бы здесь говорить, исходно разомкнут связью с бытием, как это проясняет Хайдеггер. Однако, бытийная открытость расстилает мир подручного вокруг специфического сущего. Не доверяя в онтологическом смысле слова естественнонаучному знанию и тому, что методологически перманентно должно его обосновывать, Хайдеггер как критик неокантианской программы начинает выстраивать свою онтологию с эстезиса, то есть с той образности подручного сущего, что высвечена онтологическим зазором, с которым уже как-то соотнесла себя экзистенция. Для мира живого и неживого сущего, окружающего понимающее присутствие, это означает быть отданным на откуп, а единственным способом ускользнуть от этого становится околевание и поломка. Животное околевает, инструмент ломается и в этом естественном ходе событий нет ничего, что могло бы потрясти метаэтическую идентичность человеческой самости и вывести её из замкнутости. Наоборот, согласно Хайдеггеру, всё это подводит к иллюзии исходности наличного сущего, определяющей верховенство естественно-научного подхода. Если самости что-то и угрожает с нравственной точки зрения, то только падение, вполне соответствующее фундаментальной устроенности специфического сущего. В отношении Другого и того, что обозначается понятием «Mitsein», Хайдеггер ограничивается в целом верными замечаниями об уважении препорученной каждому из нас задачи заботиться о своем собственном бытии. Но эти замечания остаются бессодержательными и мало что добавляющими к аналитике одинокого Dasein.
Отсутствие в фундаментальной онтологии измерения должного, которое могло бы обновить этот мир и указать путь к спасению, обусловлено односторонней ориентацией Хайдеггера на противодействие забвению. Отсюда — чисто эллинистический жест припоминания, возвращающий к истоку досократического философствования. Следуя герменевтике фактичности, его можно подхватить, но не продолжить. Решимость, эта позаимствованная у Кьеркегора экзистенциальная категория, не должна нас обольщать: вне перспективы повторения, открыто противопоставленного припоминанию, она лишена силы и пуста.
Конечно, «проблема Хайдеггера не в том, чтобы вернуться назад — и всё же в критике [Хайдеггером эпохи онтотеологии, ответственной за забвение — М.Л.] имеется нечто уничижительное: напоминание об упущенных возможностях, напоминание о недосказанном и непродуманном этой эпохи, по отношению к которой утверждается тот сорт бессилия, что снова оставляет шанс: возможность воссоединиться, но на этот раз зрелым образом, с недосказанным и непродуманным» [14. С. 138]. Так, Хайдеггер больше сосредоточен на проблеме припоминания и возвращения к истоку, хоть и предполагая перспективу будущности, однако ограниченную пределом, в который упирается бытие-к-смерти. А на этом пути экзистенцию ожидает лишь оторопь, выдаваемая Хайдеггером за решимость. Он заявляет: «Решимость как судьба есть свобода для возможно требуемого ситуацией отказа от определённого решения» [15. С. 437]. Однако ясно, что диктуемая ситуацией свобода есть оцепенение. Бытия-к-смерти однозначно недостаточно для возобновления и заступания, способных в мгновение ока, во-первых, перешагнуть через возможность воссоединения с недосказанным и непродуманным, осуществив её, и, во-вторых, исполнить исток. Перешагнуть здесь необходимо само бытие-к-смерти, а такая возможность им самим не предусмотрена. Отсюда — замкнутый круг классического трансцендентализма, вынужденного в переходе к онтологическому гипостазировать формы, обосновывающие онтическое. Хайдеггер продолжает эту традицию трансцендентализма. Мало того, что заступание и возобновление заданы им по типу стадий Зенона, что свидетельствует об идеалистической подоплёке такого подхода к темпоральной экстатике; существеннее то, что аутентичные модусы временности понимания, в котором исходно расположено присутствие, а именно решимость, возобновление и заступание, необходимы для неаутентичных, то есть для актуализации, забывания и ожидания, соответственно. Так, актуализация — а по отношению к ней Хайдеггер одновременно снисходителен и брезглив — связана с истоком неподлинным образом. Она соблазняет тем, что образует пену дней того настоящего, в котором перелицованное под его запросы прошлое оборачивается бесплодным ожиданием. Именно такая логика (её можно было бы назвать платонической) превращает актуализацию из самодостаточного процесса творческого прочерчивания путей для чего-то нового в привативный модус того, что её фундирует и ограничивает, лишает творческого потенциала, выступая под видом решимости-оцепенения10. Трансцендентальный платонизм проявляется у Хайдеггера в пренебрежении к несамодостаточному онтическому уровню бытия, с которым основательная мысль вынуждена лишь мириться, обозначая выход к нему с помощью интуиции падения. Конечно, падение, согласно Хайдеггеру, не является грехопадением, и в этом смысле оно свободно от религиозных коннотаций, предпологающих принципиальное различие между творческим и тварным, простотой бытия и составным хакрактером сущего. И тем не менее, онтологический уровень вновь оказывается задан со своей стороны через разрыв с тем, чему он предпослан. Падение в этой логике возвращения к истоку, так же как и платоническое понятие копии, ориентирует на возвышение (которым, кстати, Деррида переводит гегелевское «cнятие») и восполнение тем, чего онтическое лишено, привативный характер которого в принципе не позволяет говорить о возможности быть освящённым и спасённым. «Онтологический исток бытия присутствия не «меньше» того, что из него возникает, но заранее превосходит его по мощности, и всякое «возникновение» в онтологической области есть дегенерация» [15. С. 375]. В рамках хайдеггеровской онтологии дегенерация указывает на то, что онтическое нуждается в поддерживающих его аутентичных формах, но что касается последних, они, будучи гипертрофированными, полагаются догматическим путём трансцендирования переживания в направлении того, что его фундаментально якобы поддерживает и таким образом помогает нейтрализовать. Вновь зацикленность на конечности сущего упирается в возрождающийся метафизический абсолют. Умение выстоять в просвете бытия, таким образом, по-философски оборачивается снятием ужаса, в котором совпадают перед-чем и за-что фундаментальной оторопи.
Заключение
Экзистенциальное обрамление истока ещё не гарантирует присутствия в нём жизни. Хайдеггеровская темпоральная экстатика, упирающаяся в предел, положенный бытием-к-смерти, тому подтверждение. Вечное возвращение, как бы того ни хотелось Хайдеггеру с его недоверием должному, оказалось более созвучным диалогическому истолкованию истока в системе Розенцвейга. Ницше с Розенцвейгом в этом плане объединяет трезвое принятие границ, а также сопутствующее этому принятию опьянение (Дионис опьянён также, как и жених из Песни песней) от свободного прочерчивания траекторий, заданных определённой перспективой. Розенцвейгу, так же как и Заратустре, известна тайна жизни, размыкающей индивидуальное существование в бесконечность. Совпасть с гением Ницше Розенцвейгу помогает следование двум методологическим установкам: неокантианскому принципу истины, с одной стороны, и экзистенциальному принципу, с другой. Корреляция истока, представленного бесконечно малой величиной, и экзистенциального переживания конечности всего сущего размыкает горизонт, в котором перспектива бытия-к-смерти задана как превосходимая. А в однонаправленности фундаментальной онтологии «Бытия и времени», поднимающей с онтического уровня к онтологическому, с которого можно только падать, фигурирует лишь нескончаемое умирание. В нём, как в апориях Зенона, событие смерти бесконечно отсрочено только потому, что присутствие находится всегда в середине мира, и нет ничего, что можно было бы этой бесконечности эстезиса противопоставить.
1 Под идеалом для марбургской школы неокантианства имеется в виду, прежде всего, истина познания, «нереализуемое целое опыта», а далее — благо и красота.
2 Cohen H. «Charakteristik der Ethik Maimunis», цит. по [4. С. 232].
3 Константин Констанциус, Йоханнес Климакус с Анти-Климакусом — творческие псевдонимы Кьеркегора, его виртуальные спутники, по движению которых распознается глубина удерживающей их экзистенции. Первый, отталкиваясь только от возможности возобновления отношений Кьеркегора с Региной Ольсен, как раз и вводит в философскую литературу чисто христианский сюжет чудесного повторения. Второй и третий, будучи опосредованными стоящей за ними фигурой, символизируют на методологическом уровне комплементарность прыжка веры через бездну греха и сомнения, поступательно продвигающегося, как по ступеням лестницы, к ускользающей истине.
4 О влиянии Ницше и Кьеркегора на мысль Розенцвейга см. Bielik-Robson A. Franz Rosenzweig: How to Philosophize with the Star [5].
5 В проповеди ап. Павла спасение связывается с необходимостью жить в особом мессианическом времени, отнюдь не отменяющем времени истории. Так в Послании к Римлянам, «соизмеряя» преимущества жизни по закону и по благодати, Павел отмечает необходимость и праведность того закона, что оживляет грех, без смерти в котором невозможно воскреснуть (Рим. 7:7—12). Эллинское «припоминание», таким образом, сохраняет свои права в зарождающемся христианском дискурсе, априорным статусом истинного знания участвуя в нейтрализации беззакония, подводя к благовости заповедного. Существенно то, что теперь это припоминание используется не для того, чтобы замкнуться в законе, но с целью действительного исполнения закона посредством любви (Рим. 13:10). Отсюда важный для Кьеркегора образ отсечённой ветви, которую Бог в состоянии привить к жизни вновь (Рим. 11:23).
6 О связи времени и литургии в концепции Розенцвейга см. [8—9].
7 Формула B=B описывает ту отправную точку для перехода к творению, откровению и избавлению, в которой, поскольку она формально тождественна формуле метафизического Бога (А=А), человек оказывается восприимчив к воззванию, пересекаясь при этом с металогикой контингентного сущего, выражаемого формулой В=А. См. [10].
8 О трактовке откровения и о взаимоотношении Бога и человека в концепции Розенцвейга см. [11].
10 Ср. со значением, которое придаёт актуализации Ж. Делёз, анализируя творчество А. Бергсона [16. С. 306—307].
Об авторах
Максим Федорович Литвинов
Воронежский государственный университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: litvinov@phipsy.vsu.ru
ORCID iD: 0000-0003-0161-9254
кандидат философских наук, доцент кафедры истории философии и культуры факультета философии и психологии
Российская Федерация, 394018, Воронеж, Университетская пл., 1Список литературы
- Дворкин И.С. Огонь и лучи. Философия иудаизма и христианства в «Звезде избавления» Ф. Розенцвейга // Judaica Petropolitana. 2016. № 6 (1). С. 17-38.
- Macina M.R. Le «judéo-christianisme» de Franz Rosenzweig // Revue d'Histoire et de Philosophie Religieuses. 1986. № 4 (66). P. 429-450.
- Розенцвейг Ф. Звезда избавления. М. : Мосты культуры/Гешарим, 2017.
- Пома А. Критическая философия Германа Когена. М. : Академический проект, 2012.
- Bielik-Robson A. Franz Rosenzweig: How to Philosophize with the Star // Religion and European Philosophy. Key Thinkers from Kant to Zizek. Goodchild P., Phelps H., editors. London : Routledge, 2017. P. 184-195.
- Степанищев С.А. Диалог Платона «Федон» и новейшая континентальная мысль // Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 2 : Юридические науки. 2014. № 1 (4). С. 22-25.
- Погорельская С.В. «Загадочные параллели». Хайдеггер и Розенцвейг в современном хайдеггероведении (о книгах С. Мёбусс «Тень звезды» и «Следы». Философский путь позднего Мартина Хайдеггера) // Человек. Образ и сущность. 2021. № 4 (48). С. 122-128. https://doi.org/10.31249/chel/2021.04.09
- Zizic I. La priere et le temps chez Franz Rosenzweig // Communio. 2017. № 3-4 (251-252). P. 180-186. https://doi.org/10.3917/commun.251.0180
- Резвых Т.Н. Время и культ в книге «Звезда спасения» Франца Розенцвейга // Вестник РГТУ. Серия : Философия. Социология. Искусствоведение. 2016. № 3 (5). С. 74-87.
- Бертолино Л. Человек - «гражданин двух миров»: развитие Розенцвейгом кантовских тем // Кантовский сборник. 2014. № 4 (50). С. 82-97.
- Кострова Е.А. Откровение как диалог : Бог и человек в «Звезде спасения» Ф. Розенцвейга // Философские науки. 2011. № 7. С. 115-127.
- Сокулер З.А. Герман Коген и философия диалога. М. : Прогресс-Традиция, 2008.
- Бертолино Л. Инфинитиземальный метод у Германа Когена, Франца Розенцвейга и Жиля Делёза // Вопросы философии. 2018. № 3. С. 75-88.
- Levinas E. Dieu et l’onto-théo-logie // Dieu, la mort et le temps. Saint-Amand-Montrond (Cher) : Grasset, 1993. P. 135-279.
- Хайдеггер М. Бытие и время. Харьков : Фолио, 2003.
- Делез Ж. Бергсонизм // Эмпиризм и субъективность: опыт о человеческой природе по Юму. Критическая философия Канта: учение о способностях. Бергсонизм. Спиноза. М. : ПЕР СЭ, 2001. С. 227-322.