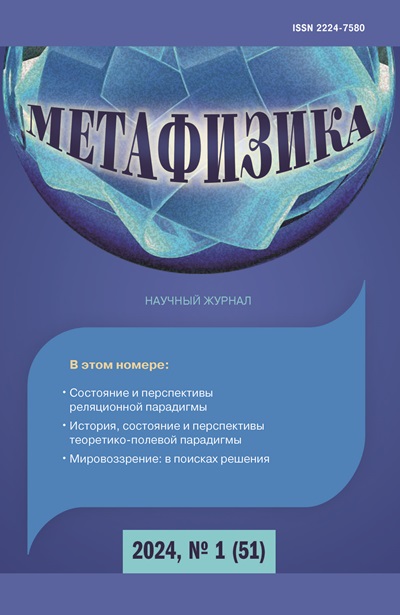РАССУЖДЕНИЯ О РАЦИОНАЛЬНОСТИ И НАУКЕ
- Авторы: Фомов С.В.1
-
Учреждения:
- Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого
- Выпуск: № 1 (2024)
- Страницы: 164-178
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.rudn.ru/metaphysics/article/view/39560
- DOI: https://doi.org/10.22363/2224-7580-2024-1-164-178
- EDN: https://elibrary.ru/KOSFHU
- ID: 39560
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Предлагается, для конкретизации понятия рациональности различать значение слова в широком и узком смысле. Научность понимается как слияние рациональности и логичности. Наука Нового времени стала возможной после отказа от перипатетических принципов, ориентированных на поиск конечного целеполагания, в пользу установления действующей причины. Наука на основе классической рациональности изучает и синтезирует лишь простые, механистические системы, характеризующиеся лапласовской причинностью. Классическая наука воспринимает эмпирический объект в виде «чёрного ящика», функционирующего по принципу «стимул - реакция», и безразлична как к природе, так и внутренней организации объекта исследования. Переход науки на неклассический тип рациональности предполагает вовлечение в сферу своих интересов объектов, имеющих форму кванта сложной системы.
Полный текст
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Гёте. Фауст В понимании науки нет ничего сложного, самое сложное - это правильное её понимание. Научно-философский тезаурус изобилует терминами, казалось бы, интуитивно понятными, но в то же время не имеющими устоявшихся дефиниций. Один из таких терминов - рациональность. Если обратиться к энциклопедиям и словарям, то обнаружится, что определение рациональности в них, если и приводится, то весьма расплывчатое и обтекаемое. Издаваемая специализированная литература по данной тематике также не особо жалует конкретику, предпочитая по большей части предаваться обширным рассуждениям о специфических особенностях рациональности, полемизировать о её отдельных аспектах, дискутировать о всякого рода акциденциях, сопутствующих эпифеноменах и т.д. Можно выделить две описательные традиции, для которых экспликация рациональности представляет интерес: позитивистскую и диалектическую. В позитивизме сложность формулирования дефиниенса обусловлена имманентно присущей рациональности рекурсии: будучи средством (мерилом, критерием) оценивания результатов интеллектуальной деятельности, она сама является её продуктом. Замкнутость на саму себя затрудняет выражение рациональности дескриптивными средствами, всякий раз сводя попытки такого рода к логическому кругу. По традиции, берущей начало от И. Канта, классическая философия проблему рациональности поначалу пыталась представить в виде размежевания рассудка и разума, где рассудку отводилась роль производителя низшей, нормативной рациональности, а разум классифицировался как подчиняющий себе рассудок генератор высшей, творческой рациональности. Впоследствии под влиянием гегелевских воззрений произошло переосмысление исходной иерархической зависимости между разумом и рассудком в пользу замены её «диалектическим противоречием». Подход к пониманию рациональности как амбивалентной предикативности наиболее свойствен отечественной философской мысли, формирование которой в советский период проходило под «неусыпным надзором» диамата[6]. Гегелевский ракурс позволял рассматривать рациональность не только сквозь призму упомянутых парных категорий (высшая - низшая или нормативная - творческая), но и, в зависимости от предпочтений того или иного автора, выражать её через другие, находящиеся в контрарных отношениях, понятия, такие, например, как локальная - универсальная, конкретно-историческая - вневременная, субъективистская - объективистская и т.д. Пристрастие философов к диалектическим спекуляциям во многом обусловлено способностью, при должном освоении соответствующей методики, снимать любую проблему. Однако испытывающие особый пиетет к гегелевскому наследию обычно игнорируют тот факт, что объяснительные возможности гегельянства с лихвой нивелируются эвристической немощью. Даваемые спекулятивной диалектикой определения не столько способствуют установлению смысловой детерминации, сколько увеличению словесных вариаций описания исходной неопределенности. Не удивительно, что случаев открытия каких-либо научных законов средствами диалектического инструментария не зафиксировано. Диалектика в гегелевской интерпретации, с одной стороны, и наука в классическом её виде - с другой, - вещи несовместимые. Неопровержимость гегелевских нарративов диссонирует фаллибилизму научного знания и фальсифицируемости научных теорий. Таким образом, ни позитивистская позиция, в силу непременного скатывания к логическому кругу, ни спекулятивные ухищрения диалектики не решают задачу экспликации рациональности. * * * Многие проблемы легко устраняются, когда к ним подходят нетривиально. Так, апории Зенона, сформулированные ещё во времена Древней Греции, до сих пор не имеют удовлетворительного решения, но только если ограничиваться исключительно теоретическим уровнем. Если же попытаться взглянуть на ситуацию несколько шире, окажется, что, скажем, логически безупречный силлогизм, известный под названием «Стрела» - аналитически обосновывающий невозможность движения, - без труда нивелируется банальным прохаживанием, как и поступил когда-то Антисфен. Умение мысленно обыгрывать ситуацию - безусловно важное человеческое приобретение, но не универсальное. Всякое средство, в том числе и способность к теоретизированию, имеет границы применимости и зацикливание на них не всегда продуктивно, на что и намекают апории Зенона. Теоретический мир, выстроенный из идеальных конструктов, - это особая интеллигибельная явственность, принципиально отличная от сенсибельно постигаемой реальности. Человек, по своей природе, находится в двух мирах - идейном и вещественном - одновременно; оба мира для него значимы, одинаково важны и необходимы. Человек представляет собой единство тела, живущего в материальной действительности, и сознания, обитающего в абстрактном вместилище. Интеллект, как проявление функциональной мощи сознания, обеспечивает выживаемость физическому телу, позволяя тому наиболее эффективно адаптироваться к изменениям условий среды обитания. В свою очередь интеллект получает возможность «насыщаться» новыми данными путём «подключения» через органы чувств к неисчерпаемому источнику свежих впечатлений, необходимых ему для «калибровки» и совершенствования. * * * Помимо прочего, человеческое сознание наделено такой удивительной способностью, как рефлексия, - умение оценивать себя со стороны, мыслить мышление. Процесс генерации научного знания, в классическом его виде, предполагает этап ассоциирования себя с некой отстранённой, внеличностной сущностью, дистанцированной не только от материальной, но и ментальной действительности. В первом случае человек получает возможность синтезировать естественнонаучные знания, во втором - знания гуманитарной направленности. Выход на локальный метауровень - эффективный интеллектуальный приём, дающий возможность разрешить проблему экспликации рациональности, избежав при этом логического круга и не поддавшись соблазнам диалектических спекуляций. Не только строение человека, как говорилось ранее, является двухкомпонентным образованием, состоящим из физического тела и сознания, но и поведение человека также может быть представлено дуалистически в виде бессознательной и сознательной мотивации. Бессознательная активность человека обуславливается врождёнными инстинктами. Сознательная - предваряется когнитивной работой. На уровне инстинктов действия человека инициируются лимбической системой (подкорковыми структурами головного мозга), на сознательном - неокортексом (корой полушарий головного мозга). Таким образом, если подходить к оцениванию человеческого поведения по критерию «сознательное - бессознательное», то всё, что продуцируется мыслительной деятельностью головного мозга, может быть признано рациональным. А всё, что осуществляется человеком неосознанно и инстинктивно, без обращения к рассудку, то есть поступки, мотивированные чувствами, впечатлениями или переживаниями, соответственно, признаются иррациональными. Приведённая формулировка рациональности вполне согласуется с исходным значением термина, происходящего от латинского ratio, означающего разум, и даёт возможность распространить интенсионал рациональности на всё, что связано с осознанным выбором. Такое широкое толкование рациональности относится к поступкам человека вообще как к классификационному признаку, свойственному представителям определённого биологического вида - homosapiens. Вместе с тем человек - не только биологическое существо, но и продукт социального созревания. Он способен реализовывать заложенный в нём потенциал, лишь обрамлённый надлежащей культурной средой. Если как примат человек репродуцируется с помощью генетических кодов, то как homosapiens он воспроизводится кодами, хранящимися, по выражению В.С. Стёпина, в «неорганическом теле человека» [1] - посредством декодирования смыслов, зашифрованных в артефактах и образцах социального поведения. То, какая информации будет извлечена в процессе дешифрации, зависит от ментальных задатков конкретного человека. Содержательно извлекаемая информация не является безусловным инвариантом, её смысловое наполнение пластично, что вытекает из самой природой информации. Согласно одному из определений, «...информацией называются все феномены внешней и внутренней действительности, имеющие смысл. <...> феномен становится информацией, как только начинает обладать каким-либо смыслом. <...> информация суть психическая интернализация явлений окружающего мира, психически интернализованные смыслы. Информация суть не объективное, но субъективное свойство предметов и явлений окружающего мира» [2. С. 24]. Интернализация, то есть превращение данных поступающих от органов чувств в информацию, иначе - наполнение сведений смыслом, предопределяется структурой и качественными параметрами «декодирующих матриц», роль которых в социуме выполняют ценностные ориентиры. Учитывая обязательную погружённость человека во вторичную природу (то есть искусственно обустроенную среду обитания), понятие рациональности, с поправкой на культурную составляющую, может быть уточнено. В таком узком понимании рациональными признаются только тот образ мыслей и тип деятельности, которые коррелируют с принятыми в данном социуме ценностными установками. Соответственно, всё, что не вписывается в устоявшиеся стереотипы поведения и мышления, признаётся нерациональным. * * * Аналитические интенции современной техногенной цивилизации имеют ярко выраженную формально-логическую детерминанту, уходящую своими корнями в античное прошлое. В.Н. Порус на страницах Новой философской энциклопедии пишет: «„Логоцентрическая“ парадигма европейской философии, сложившаяся в Античности и достигшая своей наиболее законченной формы в классическом рационализме, зиждилась на убеждении в абсолютности и неизменности законов вселенского разума, постигаемых человеком и обнаруживаемых им в собственной духовной способности. Наиболее ясными и очевидными из этих законов античная высокая философская классика признавала законы логики, которые, согласно Аристотелю, являются фундаментальными принципами бытия и мышления. От этого ведет начало тенденция уравнивать „рациональность“ и „логичность“: все, что соответствует законам логики, рационально, то, что не соответствует этим законам, нерационально, то, что противоречит логике, иррационально» [3. С. 425]. Близость смыслов рациональности и логичности не делает эти понятия синонимичными. С одной стороны, логика не во всём тождественна рациональности, поскольку не всегда предполагает демонстративное подтверждение, например, апории Зенона. В свою очередь, и рациональность не растворяется в логичности, актуализируясь через такие оценочно-прагматические категории, как оптимальность, эффективность, целесообразность и др. Расходясь в частностях, рациональность и логичность, тем не менее, скреплены единой понятийной общностью. Возможно, по причине отсутствия прежде различения между широким и узким значениями рациональности, в философском дискурсе до сих пор логическая рациональность (или рациональная логичность) не ассоциирована ни с какой именной обособленностью. Смысловая локализация становится достаточно очевидной, если иметь в виду только узкую интерпретацию рациональности. Пожалуй, не будет особым откровением сказать, что в современном обществе, которое можно назвать обществом потребления, синтез рациональности и логичности порождает научность (рис. 1). Предложенное ви́дение научности находится в полном согласии с пониманием науки как особым видом знаний и специфическим типом познавательной деятельности. Представление о научности, как области пересечения рационального и логического, позволяет сделать два безусловных вывода: 1) всё научное заведомо рационально; 2) всё научное изначально логически непротиворечиво и системно организовано. Системность научности вытекает из формы логических силлогизмов, представляющих импликацию нескольких суждений. Иначе говоря, логические умозаключения, следовательно, и все научные утверждения всегда системно организованы. Рис. 1. Научность как синтез рациональности и логичности * * * Умение мыслить по современным меркам правильно, то есть рассуждать в соответствии с требованиями формальной логики, не присуще человеку от рождения, а приобретается им при соответствующем обучении и воспитании, что подтверждено многими исследованиями: «...в 30-е гг. XX в. в исследованиях известного психолога А.Р. Лурия, которые проводились в рамках научной экспедиции в Среднюю Азию, было установлено, что большинство представителей традиционалистских групп, незнакомых с наукой, испытывали большие затруднения при решении задач, требующих формального рассуждения по схеме силлогизма. Например, спрашивалось: „Берлин - город Германии, в Германии нет верблюдов, есть ли в Берлине верблюды?“ Согласно правилам логики, правильный ответ должен быть отрицательным („нет“). Но большинство испытуемых - жителей кишлаков - отвечали: „Наверное, есть“. Обосновывали они свой ответ тем, что если Берлин большой город, то в него мог прийти туркмен или таджик с верблюдом. В их сознании доминировала логика ситуативного практического рассуждения, которое предполагает постоянный контроль со стороны обыденного опыта и не выходит за рамки этого опыта. Показательно, что молодые люди в тех же кишлаках, которые прошли курс школьного обучения элементарной математике и началам естественных наук, относительно легко решали подобные задачи» [1. С. 5-6]. Если в традиционной культуре превалирует логика ситуативной прагматики, предполагающая постоянный контроль со стороны обыденного опыта, то в технократическом обществе[7], по большей части руководствуются формальной логикой, лежащей в основании научных знаний. Наука, став производительной силой общества, обеспечила себе непререкаемый авторитет и утвердила свою рациональность в качестве эталонной. Научную рациональность на основе формальной логики принято называть классической. По отношению к ней бытийную условно можно назвать пред- или доклассической. Допустив наряду с классической рациональностью возможность и предклассической её разновидности, несложно предположить существование над- или сверхрациональности. И действительно, сегодня всё больше философов склоняются к идее о необходимости перехода науки на новый уровень рациональности. Продвигается мысль о том, что наука в своём развитии подошла к рубежу, когда возникает необходимость осваивать не только так называемые простые, но и сложные системы. К последним (то есть к сложным), по мнению В.С. Стёпина, относятся самоорганизующиеся и саморазвивающиеся системы. Если простые системы описываются средствами классической рациональности, то самоорганизующиеся и саморазвивающиеся системы требуют для своего осмысления использование познавательных процедур неклассической и постнеклассической рациональности [4]. * * * Традиционная наука, то есть наука, опирающаяся на принципы классической рациональности адаптирована к изучению исключительно механистических систем. Классическая наука изучает лишь те вещи, которые она способна трансформировать в эмпирические посредством создания особой ситуации, именуемой экспериментальной (или квазиэкспериментальной). Подготовленные таким образом исследуемые объекты условно можно изобразить в виде некоего «чёрного ящика» - функционального блока, преобразующего входное воздействие в конечный результат. Типовая модель классического научного подхода визуализируется схемой, представленной на рис. 2. у = F(x) Рис. 2. Модель научного подхода на основе классической рациональности (экспериментальная ситуация): x - внешний аргумент (входное воздействие); F - объект исследования (функциональный преобразователь, «чёрный ящик»); у - предмет исследования (реакция на воздействие); у = F(x) - аналитическая модель (научный закон) Фундаментальная классическая наука занимается установлением обстоятельств, позволяющих обнаруживать функциональную зависимость между входным воздействием на исследуемый объект и его ответной реакцией. Название «чёрный ящик» - это метафора, указывающая на то, что традиционной науке совершенно безразлично происхождение вещи; природа исследуемого объекта может быть любой: физической, химической, биологической, социальной и т.д. Так же для классической познавательной деятельности не принципиальна внутренняя организация объекта. Главное для науки - установление функциональной зависимости между «входом» и «выходом». В этом, по сути, и заключается сущность классического научного подхода, а именно - превращение реальной вещественной действительности в математическую абстракцию, то есть идеализированную модель, цифровой эквивалент, формализованный конструкт. Выражаясь словами И. Канта: «...в любом частном учении о природе можно найти науки в собственном смысле лишь столько, сколько имеется в ней математики» [5. С. 251]. Как любое доказательство в геометрии в конечном счёте сводится к постулатам, точно так же и всякая синтезированная механистическая система всегда может быть редуцирована до элементарных модулей, количество которых зависит от степени необходимой детализации. При максимальном масштабировании исследуемая система сама приобретает форму элементарной ячейки (теоремы - в геометрической интерпретации) - функционального преобразователя с одним входом и одним выходом, работающего по принципу «стимул - реакция» (рис. 3). Рис. 3. Вариант декомпозиции (реинжиниринга) «чёрного ящика» Всякий природный объект сам по себе наделён бесконечным количеством свойств и отношений. Чтобы вещь стала пригодной для научного исследования, её определённым образом к этому подготавливают. С этой целью вещь извлекается из естественной среды обитания и помещается в искусственные (лабораторные) условия, в которых с помощью компенсирующих факторов создаётся обстановка, где вещь, как объект исследования, лишается всех степеней свободы за исключением одной единственной. Наука способна изучать явления и процессы не сами по себе, а лишь в той степени, в которой их можно детерминировать, превратить в механизм, то есть в функциональный преобразователь. Научные знания - это особая разновидность знаний, продуцируемая специфическими обстоятельствами, именуемыми экспериментом или квазиэкспериментом. В случае эксперимента особые условия создаются преднамеренно, в случае квазиэксперимента - ограничительные факторы возникают естественным образом. Цель эксперимента - трансформация естества в эмпирику, превращение «вещи-в-себе» в удобную для потребления интеллектом «вещь-для-нас». В свете изложенного обнажается экзистенциальное содержание науки, её имманентное целеполагание. Сущностно наука стремится к достижению тотального контроля над объектом познания, приобретению субъектом возможности распоряжаться этим объектом по своему усмотрению. Если брать только естествознание, то его конечная целевая установка - утверждение человеком своего господства над материальной действительностью. Господство предполагает тотальную власть. Властвовать - значит быть способным осуществлять управление. А осознанное, то есть разумное (рациональное), управление достигается овладением законами функционирования, что и обеспечивается знаниями, добываемыми наукой на основе классической рациональности (рис. 4). Рис. 4. Рационалистический и метафизический уровни науки * * * Знания, приобретаемые человеком на основе классической и предклассической рациональности, ограничены сферой удовлетворения материальных потребностей. Роднит эти знания общее предназначение - обеспечение биологического выживания человека и получение осязаемых (вещественных) преимуществ в конкурентной борьбе с себе подобными. Выше уже отмечалось, что рациональность находит своё конкретное воплощение в таких критериях, как эффективность, оптимальность, экономичность и т.п., имеющих количественное выражение. Классическая рациональность с задачей преумножения числительных значений справляется значительно лучше, нежели рациональность на основе обыденного опыта. Благодаря большей продуктивности повсюду, где техногенная цивилизация, оперирующая знаниями науки Нового времени, сталкивается с традиционным укладом жизни, такая встреча обычно заканчивается одним и тем же исходом - первый тип общественного устройства подминает под себя второй. Но правомерно ли на этом основании утверждать, что один образ жизни более рационален, чем другой? Путешественник и эксперт по колыбельным цивилизациям В.В. Сундаков [6] обращает внимание на следующую особенность первобытных общин - во всех «диких» племенах, где ему удалось побывать, культивируется аскеза. Вожди «примитивных» народов отличаются от остальных соплеменников умением обходиться минимальным количеством вещей. С их точки зрения, дополнительная атрибутика указывает на слабость и физическую неполноценность её владельца. Сильный человек ни в чём не нуждается. Люди ощущают себя неотъемлемой частью окружающей среды и стремятся жить в гармонии с природой. Ценностные ориентиры «цивилизованного» человека диаметрально противоположные. Считается, что свобода должна быть завоёвана через приобретение максимального количества материальных благ. Человек якобы изначально беззащитен перед лицом стихий, немощен и находится в рабской зависимости от «капризов» природы. Только огородив себя техногенной оболочкой, вооружившись различного рода механистическими приспособлениями, он освобождается от необходимости подчиняться случайным прихотям судьбы и обретает подлинную свободу - возможность действовать по собственному волению, вынуждая теперь уже внешний мир служить его личным интересам. Природное естество враждебно и должно быть покорено, поставлено в зависимость от желаний человека, трансформировано в полностью контролируемую искусственность. «Цивилизованное» отношение к природе достаточно точно передаёт фраза И.В. Мичурина: «Мы не можем ждать милостей от природы; взять их у нее - наша задача» [7. С. 10]. Если рассматривать рациональность в широком смысле слова, то поведение, скажем, аборигена Новой Гвинеи или клерка из Москва-Сити в равной степени могут считаться рациональны, если совершаются осознанно. Однако их поступки отличаются мотивационной составляющей. С учётом ценностных ориентиров - в узком значении термина рациональность - «дикарь», по меркам «цивилизованного» человека, думает и действует иррационально. Аналогичным образом мог бы расценить поведение клерка и абориген, если только его речевая практика оперировала бы понятием разумности. Но по причине намеренного изъятия из обихода всех излишеств у представителей колыбельных цивилизаций надобность в такого рода терминологических изысках просто не возникает. * * * Интеллект и тело образуют взаимовыгодный симбиоз. Научные знания способствуют соитию инородностей (сущностно-всеобщего и вещественно-конкретного) наиболее результативным образом. Научные знания, как особый продукт интеллектуальный деятельности, увеличивают физические возможности и расширяют диапазон вариативности внешней активности человека, благоприятствуя тем самым развитию самого интеллекта. Всякий симбиоз зиждется на альтруизме. Так, организм, для надлежащего функционирования с задействованием одной лишь лимбической системы, затрачивает на работу высшей нервной системы около 10 % энергии, что при весе головного мозга порядка 1,3 кг уже выше среднего. Когда же человек начинает интенсивно думать, подключая к работе неокортекс, траты энергии возрастают до 25 % [8]. Общественная жизнь также являет собой пример альтруизма. Человеку, чтобы личностно состояться, необходимо часть времени и сил расходовать на внешние по отношению к нему социальные связи, отстаивать не только свои, но и групповые интересы. Российский мыслитель, публицист и революционер-народник Н.Г. Чернышевский выдвинул в своё время идею «разумного эгоизма», в соответствии с которой чем на более отдалённую перспективу распространяются планы, тем более альтруистическую направленность должна иметь конкретная деятельность. Развивая науку, человек одновременно оттачивает и интеллектуальные навыки, позволяющие ему расширять горизонты временно́й перспективы. С возрастанием способности интеллекта предвосхищать грядущее, согласно гипотезе «разумного эгоизма», неизбежно должна прогрессировать и жертвенность текущих поступков. Продолжая рассуждение в данном русле, несложно прийти к выводу, что наивысшая точка интеллектуального развития должна предполагать осознанное возложение на алтарь во имя будущего всех материальных приобретений без остатка, вплоть до телесной оболочки. Существует ли образец такой жертвенности? Христианство не сомневается в утвердительном варианте ответе. Содержание Евангелия можно интерпретировать как повествование о случае демонстрации предельной степени рационализма, проявленной Иисусом из Назарета, наделённым разумом высшего порядка. Сразу же следует оговориться - рядовому обывателю копировать новозаветную историю бесперспективно; из ныне живущих вряд ли кто обладает соответствующими компетенциями. Применение подобного рода практик предполагает предварительное «созревание» человеческого интеллекта до надлежащего уровня. Пока же любое натурное воспроизводство событий на Голгофе будет представлять собой не более, чем карго-культ. * * * Эталоном рациональности, как уже отмечалось, на сегодня считаются научные знания, точнее знания науки Нового времени (науки в смысле science). Тип познавательной деятельности, с помощью которой приобретаются эти знания, по историческим меркам возник не так уж и давно - на рубеже XVI-XVII веков. Наука своим появлением обязана соблюдением по крайней мере, двух непременных условий, позволяющих синтезировать соответствующий тип знания: 1) безусловное отторжение субъекта от объекта познания; 2) нацеленность познавательных процедур на установление исключительно действующей причины по принципу «стимул - реакция». Отмеченные условия предполагают не только особое ви́дение мироустройства и места человека в нём, но и определённую нравственную установку, дающую моральное право думать и действовать сообразно принятым допущениям. Условия вряд ли можно назвать само собой разумеющимися, если сравнивать их с нормами поведения традиционных культур. Отечественная академическая философия по большей части придерживается позиции, согласно которой появление научного (в смысле science) мышления объясняется постепенным накоплением знаний и переходом их количества в новое качество[8]. Подобная аргументация выглядит малоубедительной уже хотя потому, что численный прирост необязательно сопровождается качественными изменениями, ведь сколько ни говори «халва», во рту слаще не становится. Безусловно, количественный параметр важен, но выход на иной уровень происходит не автоматически, а должен быть чем-то спровоцирован. Ряд специалистов по истории науки сходятся во мнении, что катализатором перехода к науке Нового времени был герметизм - религиозно-мистическое учение мифического Гермеса Трисмегиста [9-11]. Если прежняя традиция ориентировала исследователя на поиск конечной целевой причины, то в период позднего Ренессанса, под влиянием оккультных практик, учёные перенаправили усилия на установление действующей причины. Погоня за «философским камнем» сжала целеполагание до предельно элементарного принципа «стимул - реакция». Приход Нового времени знаменуется рядом кардинальных перемен в науке: поиск истины замещается практической достоверностью (правдой), утверждается механистическая картина мира, математика становится описательным языком науки, вводится инфинитезимальное исчисление. Этап увлечения науки герметизмом - отнюдь не казусное недоразумение или спонтанная девиация, а непременный и обязательный период создания благоприятных условий для замещения перипатетических принципов идеалами science - выгодой, преимуществом, гешефтом. Именно практическая магия способствовала низвержению с научного пьедестала метафизики и водружению на него физики. Совсем не случайно основатели первой академии наук - Лондонского королевского общества - разделяли идеи розенкрейцерства [9]. Находит естественное объяснение и то, не особо афишируемое официальной историей науки, обстоятельство, что большую часть своей сознательной жизни И. Ньютон занимался алхимией. «Анализу тем сомнительной научной важности (даже для той эпохи) Ньютон посвятил гораздо больше страниц, чем темам научным» [12. С. 111]. * * * Наука сулит своим последователям ряд преференций. Например, позволяет хранить и ретранслировать данные без потери исходно закодированной в них информации. Даёт возможность конструировать предметы с наперёд заданными (желаемыми) характеристиками, копировать результаты своей деятельности (гипотетически) неограниченное количество раз. Одновременно на аналитические и синтетические возможности науки налагаются некоторые ограничения. Могущество классического метода распространяется только на сферу неживой природы. Конечно, классической науке по силам изучать и биологические или социальные объекты, но лишь в той мере, в которой наука способна их мысленно «умертвить» - представить в виде абстрактной модели, детерминированной системы, функционирующего по определённому алгоритму механизма, бездушной (безличностной) машины. Переход на неклассический тип рациональности предполагает отказ от лапласовской причинности, упразднение жёсткой детерминации, исключение аподиктики. Функциональная зависимость между причиной и следствием приобретает всё более ярко выраженные пробабилистские очертания. Вместе с тем наука не может отказаться от контроля над объектом своих интересов, иначе она утратит свою сущность. Будучи прагматическим занятием, наука осуществляет манипулятивные функции в неклассическом своём варианте, несколько иначе - не напрямую воздействуя на объект по схеме «стимул - реакция», а опосредованно. «Пазл» неклассической научной рациональности уже нельзя уподоблять «чёрному ящику», поскольку особенности внутренней организации элементарной ячейки отныне становятся значимыми. Отталкиваясь от классической схемы (см. рис. 2), первичный шаг перехода к неклассике можно представить следующим образом (рис. 5). у = F[U(z)] Рис. 5. Первичный шаг перехода от классики к неклассике На рис. 5, в отличие от рис. 2, независимый аргументтеперь уже сам выступает некоторой функцией от стороннего аргумента, скажем . Имеет место случай сложной функции, или функции от функции: . В общем виде, когда функциональные зависимости носят нелинейный характер, поведение такой системы обретает черты хаоса. Несложно заметить, что при «остационаривании» - превращении одной из переменных в константу ( или ) либо когда одна из функций линейна - неклассика трансформируется в классику - разновидность варианта, изображённого на рис. 3. Можно сказать, что классический подход представляет собой частный случай неклассического, где полновесной оставляется лишь какая-то одна из переменных. Чтобы сложная система демонстрировала стабильность, необязательно низводить её до уровня простой. Структурной устойчивости можно достигнуть и через уравнивание параметров и . В этом случае система принимает форму, которую условно можно назвать квантом сложной системы (рис. 6)[9]. Рис. 6. Квант сложной системы Роли, отводимые параметрам внутри сложной системы, не жёстко предписаны, а ситуативны. Переменные и более нельзя однозначно интерпретировать, как в случае с «пазлом» классической науки. Если применительно к элементу значение является функцией от , то для элемента , наоборот, считается функцией от . Элементы и характеризуются самодостаточностью в отношении и . Происходит дифференциация пространства на внутреннее и внешнее. Складывается в некоторой степени парадоксальная ситуация: с одной стороны, параметры и , сплачивающие элементы в единое целое, жизненно необходимы системе; с другой - если эти качества внешние, то система демонстрирует к ним индифферентность. Структурная целостность, сложных систем обеспечивается налаживанием функциональных связей между её элементами. Поскольку, согласно второму закону термодинамики, протекание физических процессов сопровождается возрастанием энтропии, поддержание унитарности сложных систем неизбежно сопряжено с накоплением энергетического дефицита. Восполнение затрат производится за счёт внешней подпитки. В отличие от простых систем, которые «оживляются» только под действием управляющих возмущений, сложные системы, чтобы не деградировать и не распасться, вынуждены проявлять активность самостоятельно. По своей природе сложные системы изначально диссипативны. Зависимость от поступающих извне ресурсов делает их чувствительными к сторонним факторам. Данное обстоятельство позволяет оказывать влияние на сложные системы и манипулировать их поведением. Таким образом, сложные системы вовлекаются в орбиту научных интересов.Об авторах
Сергей Владимирович Фомов
Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого
Автор, ответственный за переписку.
Email: fomov1967@mail.ru
научный сотрудник Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого Российская Федерация, 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Карбышева, д. 8
Список литературы
- Степин В. С. История и философия науки: учебник для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук. М.: Академический Проект; Трикста, 2011. 423 с.
- Эрштейн Л. Б. Об определении понятия информации // Метафизика. 2018. № 3 (29).
- Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т философии РАН, Нац. общ.-научн. фонд; Научно-ред. совет: предс. В. С. Степин, заместители предс.: А. А. Гусейнов, Г. Ю. Семигин, уч. секр. А. П. Огурцов. М.: Мысль, Т. III, 2010. 692 с.
- Постнеклассика: философия, наука, культура: коллективная монография / отв. ред. Л. П. Киященко и В. С. Степин. СПб.: Издательский дом «Мiръ», 2009. 672 с.
- Кант И. Сочинения: в 8 т. Т. 4. М.: Чоро, 1994. 630 с.
- Сундаков Виталий. Мышление колыбельных цивилизаций. URL: https://www.youtube.com/watch?v=oraLcexWgQw (дата обращения: 10.12.2023).
- Мичурин И.В. Итоги шестидесятилетних работ. М.: Изд-во Академии Наук СССР, 1950. 550 с.
- Савельев С.В. Изменчивость и гениальность. 5-е изд., перераб. и доп. М.: ВЕДИ, 2022. 144 с.
- Йейтс Ф.А. Розенкрейцерское Просвещение. М.: Алетейа, Энигма. 1999. 496 с.
- Визгин В.П. Химическая революция как смена типов рациональности // Исторические типы рациональности. Т. 2. М., 1996. С. 205-246.
- Гайденко П. П. Научная рациональность и философский разум. М.: Прогресс-Традиция, 2003. 528 с.
- Наука. Величайшие теории: выпуск 2: Самая притягательная сила природы. Ньютон. Закон всемирного тяготения / пер. с исп. М.: Де Агостин, 2015. 168 с.
- Соколов Ю. Н. Общая теория цикла или единство мировых констант. Ставрополь: Изд-во Сев.-Кавк. гос. техн. ун-та, 2003. 98 с.
Дополнительные файлы