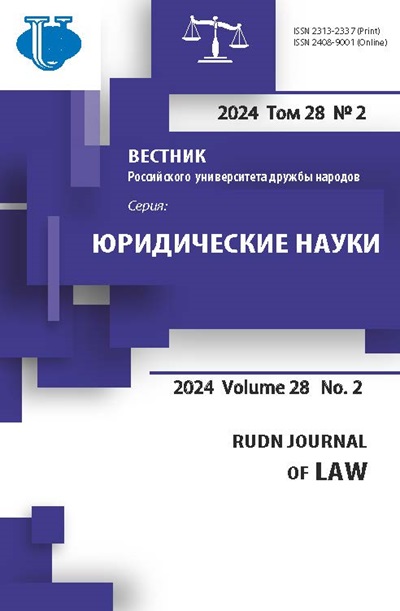Социальные исследования Эмиля Дюркгейма в контексте правозащитной деятельности
- Авторы: Кучеренко П.А.1, Назаршоев Ф.К.1
-
Учреждения:
- Российский университет дружбы народов
- Выпуск: Том 28, № 2 (2024)
- Страницы: 360-377
- Раздел: ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
- URL: https://journals.rudn.ru/law/article/view/39495
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2337-2024-28-2-360-377
- EDN: https://elibrary.ru/JTNRVL
- ID: 39495
Цитировать
Аннотация
Проведен анализ базовых категорий теории Эмиле Дюркгейма, на предложенной им методологии социальных исследований и на феномене правозащитной деятельности. В частности, исследуются такие категории, как «социальный факт», «солидарность», «коллективное сознание», «аномия». Рассмотренные категории анализируются в контексте правозащитной деятельности. Отличительно чертой исследования является междисциплинарный подход, позволяющий интегрировать результаты социологических исследований в юриспруденцию. Проанализирован ряд работ французского социолога и философа Эмиля Дюркгейма, релевантных работ иных философов, а также труды современных российских ученых-юристов в рассматриваемом контексте. В связи с востребованностью в российской и мировой юридической науке работ по правозащитной тематике авторы приходят к выводу, что комплексное понимание природы отдельных прав, правонарушений способствует более качественной, глубокой, системной их защите не только в «реакционном» смысле, но и позволяет реализовать превентивную функцию правозащитной деятельности. В этой связи полученные социолого-юридические знания представляются актуальными, востребованными и могут быть использованы в дальнейших доктринальных разработках.
Об авторах
Петр Александрович Кучеренко
Российский университет дружбы народов
Email: 1142220440@rudn.ru
доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой судебной власти, гражданского общества и правоохранительной деятельности, юридический институт 117198, Российская Федерация, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6
Фирузшо Курбонбекович Назаршоев
Российский университет дружбы народов
Автор, ответственный за переписку.
Email: 1142220440@rudn.ru
аспирант кафедры судебной власти, гражданского общества и правоохранительной деятельности юридического, юридический институт 117198, Российская Федерация, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6
Список литературы
- Азнагулова Г.М., Пашенцев Д.А. Вопросы теории государства в современной юридической доктрине // Журнал российского права. 2023. Т. 27. № 10. С. 5-15.
- Волков Ю.Г., Добреньков В.И., Нечипуренко В.Н., Попов А.В. Социология. М.: Гардарики. 2004. 512 c.
- Besnard, Ph. (1993) Anomie and fatalism in Durkheim's theory of regulation. In: Stephen P. Turner (ed.). Emile Durkheim: Sociologist and Moralist. Routledge. pp. 169-190.
- Чечельницкий И.В. Классификация видов правозащитной деятельности // Актуальные проблемы российского права. 2023. T. 18. № 7. С. 27-41. https://doi.org/10.17803/1994-1471.2023.152.7.027-041
- Чеговадзе Л.А. О предмете гражданско-правового регулирования // Цивилист. 2023. № 2. С. 31-38.
- Durkheim, E. (1893) De la division du travail social. Etude sur l’organisation des sociétés supérieures. Paris, Felix Alcan.
- Durkheim, E. (1897) Le suicide: étude de sociologie. Paris, Felix Alcan.
- Durkheim, E. (1919) Les Régles de la méthode sociologique. Septiéme edition. Paris, Felix Alcan.
- Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии / пер. с фр. и послесл. Л.Б. Гофмана. М.: Наука, 1990. 575 с.
- Durkheim, E. (1912) Les formes élémentaires de la vie religieuse. Le système totémique en Australie. Paris, Felix Alcan.
- Fukuyama, Fr. (1992) The End of History and the Last Man. N.Y., Free Press.
- Grear, A. (2010) Corporate Human Rights?. In: Redirecting Human Rights. Global Ethics Series. Palgrave Macmillan, London. https://doi.org/10.1057/9780230274631_3. pp. 23-39.
- Игнатченко И.В. Адольф Тьер - палач Парижской коммуны или «спаситель» Франции? Эволюция оценок французского либерального политика XIX века // Свободная мысль. 2018. № 5 (1671). С. 173-184.
- Isiksel, T. (2019) Corporate Human Rights Claims under the ECHR. The Georgetown Journal of Law & Public Policy. (17), 979-1005.
- Касаткин С.Н. Тезис судейского усмотрения в споре Р. Дворкина и позитивистов: аргументы «позднего» Г. Харта // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2022. Вып. 57. C. 372-398. doi: 10.17072/1995-4190-2022-57-372-398
- Кучеренко П.А. Представительная и исполнительная власть: проблема соотношения в современном государстве (сравнительно-правовое исследование): дисс. … д-ра юрид. наук. М.: Российский университет дружбы народов. 2011. 167 с.
- Kulick, A. (2021) Corporate Human Rights? The European Journal of International Law. 32(2), 537-569. https://doi.org/10.1093/ejil/chab040
- Le Bon, G. (1895) Psychologie des foules. Paris, Felix Alcan.
- Лунёв А.А. Основные права юридических лиц в международной правозащитной системе // Российский юридический журнал. 2023. № 4(151). С. 32-41. https://doi.org/10.34076/20713797_2023_4_32
- Marx, K. (1895) Manifeste du parti communiste [1848]. Bibebook.
- Посадкова М. Будущее уже здесь: о конституционной природе репродуктивного права на рождение ребёнка с использованием вспомогательных технологий // Сравнительное конституционное обозрение. 2022. № 6(151). С. 72-94. https://doi.org/10.21128/1812-7126-2022-6-72-94
- Шпаковский Ю.Г., Жаворонкова Н.Г. Экологическое законотворчество как часть социального планирования // Актуальные проблемы российского права. 2023. T. 18. № 6. С. 142-157. https://doi.org/10.17803/1994-1471.2023.151.6.142-157
- Sprondel, W.M. (2003) Solidarität. Grunbegriffe der Soziologie. Hrsg. von B. Schäfers. 8-te Aufl. Opladen: Leske+Budrich.
- Steiner, Ph. (2005) La sociologie de Durkheim [1994]. Paris, Edition La Découverte.
- Степина Н.А., Степин А.Б. Случай врачебной ошибки: вопросы теории и практики // Медицинское право. 2022. № 4. С. 52-56.
- Tarde, G. (1903) The Laws of Imitation [1890]. Translated by E.C. Parsons. N.Y., Henry Holt and Company.
Дополнительные файлы