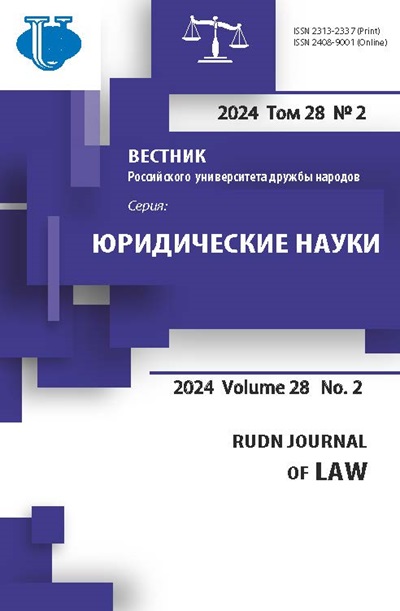Происхождение правил выбора применимого права: первобытная эпоха
- Авторы: Гетьман-Павлова И.В.1
-
Учреждения:
- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
- Выпуск: Том 28, № 2 (2024)
- Страницы: 280-296
- Раздел: ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
- URL: https://journals.rudn.ru/law/article/view/39490
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2337-2024-28-2-280-296
- EDN: https://elibrary.ru/HHKZST
- ID: 39490
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Обосновывается идея о том, что первые отношения, регулирование которых в настоящее время входит в предмет международного частного права и которые предполагают необходимость выбора применимого права, появились еще в первобытный период. К ним относятся экзогамия и табу на инцест, институт гостеприимства и договор мены. Экзогамия и табу на инцест занимают особое место и появляются одновременно с обществом и правом, составляя их фундамент. Это первое по времени отношение «с участием иностранных лиц», имеющее личный неимущественный характер. В связи с экзогамией формируются отношения гостеприимства; отношения мены появляются немного позже. Такие отношения регулируются межгрупповыми договоренностями, одновременно возникает почва для появления первых правил выбора применимого права. Это не межгосударственные, а именно межгрупповые (межобщностные) коллизии, схожие с современными интерперсональными или интерлокальными. При написании исследования использовались методы сравнительного анализа и реконструкции, формально-логический, диалектический, естественнонаучный и исторический методы. В заключение сделан вывод, что в догосударственный период в рамках первобытного права сформировались три института, составляющие изначальный предмет современного международного частного права: экзогамия (трансграничные брачно-семейные отношения), гостеприимство (право иностранцев), мена (международное контрактное право); первые правила выбора применимого права (разрешения коллизий законов) возникли также в этот период. Основной метод регулирования коллизионных проблем в первобытную эпоху - унифицированный материально-правовой (межгрупповые соглашения); одновременно архаичному праву известны такие конфликтные правила, как личный закон и закон места совершения акта. Выводы сформулированы посредством реконструкции и основаны на данных археологии, генетики, антропологии, на трудах отечественных и зарубежных ученых, занимающихся проблемами правогенеза.
Об авторах
Ирина Викторовна Гетьман-Павлова
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Автор, ответственный за переписку.
Email: getmanpav@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-2428-8016
SPIN-код: 1853-0562
ResearcherId: L-7448-2015
кандидат юридических наук, доцент, доцент департамента правового регулирования бизнеса
101000, Российская Федерация, г. Москва, Мясницкая ул., д. 20Список литературы
- Ancel, B. (2008) Histoire du droit international privé. Paris, Université Panthéon-Assas (Paris II).
- Аннерс Э. История европейского права. М.: Наука, 1994. 397 с.
- Брун М.И. Международное частное право: курс, читанный в Московском Коммерческом Институте в 1910-11 годах. М.: Тип. Л.М. Прохорова и Н.А. Яшкина, 1911. 313 с.
- Графский В.Г. Всеобщая история права и государства. М.: Норма, 2007. 738 c.
- Фрейд 3. Тотем и табу: Психология первобытной культуры и религии. СПб.: Алетейя, 1997. 222 с.
- Hamza, G. (2008) ¿Existió el Derecho Internacional Privado en el Imperio Romano? Revista Internacional de Derecho Romano. Octubre. 78-90.
- Hoebel, E.A. (1954) The Law of Primitive Man. Cambridge, Harvard University Press.
- Ковлер А.И. Антропология права: Учебник для вузов. М.: НОРМА, 2002. 480 с.
- Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. 9-е изд. (без изм.). СПб.: магазин Н.К. Мартынова, 1909. 354 с.
- Лапаева В.В. Право техногенной цивилизации перед вызовами технологической дегуманизации // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2021. № 3. С. 4-35. https://doi.org/10.17323/2072-8166.2021.3.4.35
- Lev̌i-Strauss, C. (1983) Structural Anthropology. Vol. 2. University of Chicago Press.
- Леви-Стросс К. Структурная антропология. М.: Наука, 1985. 536 с.
- Lev̌i-Strauss, C. (1969) The Elementary Structures of Kinship. Boston, Beacon Press.
- Лоренц К. Оборотная сторона зеркала. М.: Республика, 1998. 393 с.
- Лунц Л.А. Курс международного частного права: в 3 т. М.: Спарк, 2002. 1008 с.
- Малиновский Б. Магия, наука и религия. М.: Рефл-бук, 1998. 304 с.
- Мачин И.Ф. К вопросу о происхождении права / Проблемы теории государства и права / под ред. М.Н. Марченко. М.: Юристь, 2001. 656 с.
- Meili, F. (1891) Die Doctrin des internationalen Privatrechts. Zeitschrift fur internationales Privatund Strafrecht. (1), 135-148.
- Мережко А.А. Наука международного частного права: история и современность. Киев: Таксон, 2006.
- Mills, A. (2006) The Private History of International Law. The International and Comparative Law Quarterly. 55(1), 1-49.
- Минаков А.И. Интерперсональные коллизии в некоторых развивающихся странах Азии, Африки и Латинской Америки // Вестник Московского университета. 1978. № 4. С. 35-40.
- Мосс М. Социальные функции священного. Избранные произведения. СПб.: Евразия, 2000. 448 с.
- Мосс М. Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии. М.: КДУ, 2011. 416 с.
- Нефедов Б.И. Возникновение международного частного права. Часть 1 // Московский журнал международного права. 2016. № 1. С. 3-18. https://doi.org/10.24833/0869-0049-2016-1-3-18
- Нефедов Б.И. Возникновение международного частного права. Часть 2 // Московский журнал международного права. 2016. № 3. С. 3-18. https://doi.org/10.24833/0869-0049-2016-3-3-18
- Рулан H. Юридическая антропология. М.: Норма, 1999. 310 с.
- Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 1992. 543 с.
- Scheffler, H.W. (1970) The Elementary Structures of Kinship by Claude Lévi-Strauss: A Review Article. American Anthropologist. New Series. (72), 251-268.
- Шалютин Б.С. Правогенез как фактор становления общества и человека // Вопросы философии. 2011. № 11. С. 14-26.
- Шалютин Б.С., Кисель И.В. Происхождение и сущность права и государства: Учебник. Екатеринбург: изд-во Уральского института экономики, управления и права. 2012. 115 с.
- Sikora, M., Seguin-Orlando, A. & Sousa Vitor, C. (2017) Ancient genomes show social and reproductive behavior of early Upper Paleolithic foragers. Science. https://doi.org/10.1126/science.aao1807. Режим доступа: https://www.academia.edu/ 34831764/Ancient_genomes_show_social_and_reproductive_behavior_of_early_Upper_Paleolithic_foragers (дата обращения: 07.11.2023).
- Циммерман М. История международного права (с древнейших времен до 1918 года). Прага: Типография русского юридического факультета в Праге, 1924. 382 с.
- Vrellis, S. (2009) Historical Evolution. In: Private International Law in Greece. Wolters Kluwer International BV, The Netherlands.
- Вольф М. Международное частное право. М.: Гос. изд-во иностр. лит., 1948. 703 с.
Дополнительные файлы