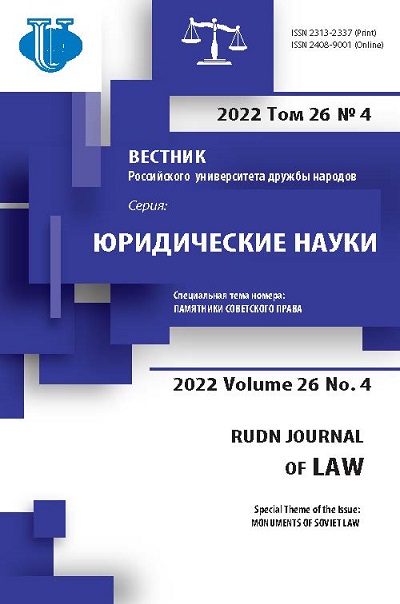Уголовно-правовые принципы в легендах древнего Рима
- Авторы: Никулина В.А.1
-
Учреждения:
- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)
- Выпуск: Том 26, № 4 (2022): ПАМЯТНИКИ СОВЕТСКОГО ПРАВА
- Страницы: 921-937
- Раздел: УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ
- URL: https://journals.rudn.ru/law/article/view/32976
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2337-2022-26-4-921-937
- ID: 32976
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Описание в работах античных авторов истории раннего Рима (VIII-IV вв. до н. э.) обычно воспринимается как мифологическое сказание, что переносит акцент научной дискуссии на оценку степени достоверности рассказываемых событий. Вследствие этого без достаточного внимания исследователей осталось нормативно-ценностное и правовое значение древних преданий. Устный и потому естественно пластичный характер архаичного права создает дополнительные сложности для его современного изучения, по сравнению с многочисленными и хорошо изученными законодательными текстами. Автор предлагает, используя современные типы правопонимания и отказавшись от строгого позитивизма, расширить границы правового анализа, переосмыслить легенду (на примере Луция Юния Брута), признать ее источником римского права, а также реконструировать ее уголовно-правовое содержание. Для этого с использованием социально-психологического, историко-правового, формально-логического и иных научных методов выделяется та часть рассказа, которая не терялась, но устойчиво воспроизводилась при передаче из поколения в поколение. Сохраняющееся ядро легенды несло социально-значимую информацию, моделирующую (нормирующую) определенное поведение (поведенческие стереотипы) древних римлян. Показывает, что факт казни первым республиканским магистратом своих детей не только легитимировал право отцовской власти ( patria potestas ), но и провозглашал приоритетную защиту общественного интереса ( civitas ), что стало краеугольным камнем римского правопорядка. Легенда задавала особый императив для граждан, формировала их мировоззрение и правосознание. С уголовно-правовой точки зрения в этом прецеденте закреплялся стандарт как запрещенного поведения, так и воздаяния за него, то есть мера справедливости, транслировались требования неотвратимости и личного характера ответственности, закладывалась основа требования правового равенства всех граждан перед запретом. В конечном счете легенда задала вектор развития римского уголовного права, который и привел к формированию его принципов, многие из которых восприняты и развиваются в современных правовых системах.
Об авторах
Виктория Александровна Никулина
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)
Автор, ответственный за переписку.
Email: vnikulina@hse.ru
ORCID iD: 0000-0002-9415-7257
SPIN-код: 2664-0862
кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и административного права
Российская Федерация, 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 17Список литературы
- Alexander, M. C. (2005) The Case for the Prosecution in the Ciceronian Era. Ann Arbor, University of Michigan Press.
- Аннерс Э. История европейского права / пер. с швед. М.: Ин-т Европы, 1994. 397 с.
- Berger, A. (1953) Encyclopedic Dictionary of Roman Law. Transactions of the American Philosophical Society. T. 43. Part 2. Philadelphia, American Philosophical Society.
- Briquel, D. (2007) Mythe et Révolution. La fabrication d’un récit: la naissance de la république à Rome. Bruxelles, Éditions Latomus. (in French).
- Честнов И.Л. Постклассическая теория права: монография. СПб.: Алеф-пресс, 2012. 650 с.
- Цицерон Марк Туллий. Речи: в 2 т. Т. II. М.: Академия наук СССР, 1962. 406 c.
- Cicero, Marcus Tullius (1964) Speeches: The speeches with an English translation. Harvard Univ. Press.
- Cornell, T. J. (1995) The Beginnings of Rome: Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars (c. 1000-264 BC). London, Routledge.
- Дементьева В.В. Римская идентичность: формирование традиций гражданского коллектива // Античный мир и археология. 2009. № 13. С. 203-213.
- Дождев Д.В. Римское частное право: учебник / под ред. В.С. Нерсесянца. 3-е изд., испр. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2020. 784 с.
- Дворкин Р.Д. О правах всерьез. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. 392 с.
- Энман А. Легенда о римских царях, ее происхождение и развитие. СПб.: Типография Балашева и Ко, 1896. 380 с.
- Франчози Дж. Институциональный курс римского права / пер. с итал.; отв. ред. Л.Л. Кофанов. М.: Статут, 2004. 428 с.
- Forsythe, G. (2005) A Critical History of Early Rome: From Prehistory to the First Punic War. California, University of California Press.
- Harries, J. (2007) Law and crime in the Roman world (Key themes in ancient history). Cambridge, Cambridge University Press.
- Harries, J. (2013) Roman Law from City State to World Empire. In: Duindam J.F.J., Harries Jill, Humfress Caroline & Hurvitz Nimrod (eds.). Law and Empire: Ideas, Practices, Actors. Boston, Brill.
- Хаттон П.Х. История как искусство памяти / пер. с англ. В.Ю. Быстрова. СПб.: Владимир Даль: Фонд Ун-т, 2003. 422 с.
- Иеринг Р. Дух римского права на различных ступенях его развития. Ч. 1. СПб.: Типография В. Безовразова и Ко, 1875. 309 с.
- Исаев И.А. Метафоры Закона: от «света» к «пламени» // Lex Russica (Русский закон). 2021. № 6 (175). С. 23-35.
- Кашанина Т.В. Происхождение государства и права. Современные трактовки и новые подходы: учебное пособие. М.: Юрист, 1999. 335 с.
- Кельзен Г. Чистое учение о праве / пер. с нем. Антонова М.В., Лезова С.В. СПб.: Алеф-Пресс, 2015. 542 с.
- Ковлер А.Н. Антропология права: учебник для вузов. М.: Норма, 2002. 430 с.
- Кофанов Л.Л. Lex и ius: возникновение и развитие римского права в VIII-III вв. до н.э. М.: Статут, 2006. 575 с.
- Кофанов Л.Л. Система римского публичного права эпохи Республики и Принципата. М.: Индрик, 2020. 600 с.
- Кудрявцев П.Н. Древнейшая римская история по исследованию Швеглера. Т. I. М.: Типография А.А. Карцева, 1887. 322 с.
- Маяк И.Л. Рим первых царей. Генезис римского полиса. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983. 272 c.
- McKnight, E. (2017) Offences Against the Res Publica: The Role of Public Interest Arguments in Cicero’s Forensic Speeches. Hague Journal on the Rule of Law. (9), 237-263.
- Моммзен Т. История Рима: в 4 т. Т. I. Ростов н/Д.: Феникс, 1997. 640 с.
- Нетушил И.В. Легенда о близнецах Ромуле и Реме. М.: URSS. Серия Академия фундаментальных исследований: История, 2019. 126 с.
- Поляков А.В., Тимошина Е.В. Общая теория права: учебник. СПб.: Изд-во юридического факультета С.-Петерб. гос. ун-та, 2005. 472 с.
- Рулан Н. Юридическая антропология: учебник для вузов / пер. с франц. отв. ред. В.С. Нерсесянц. М.: Норма, 1999. 310 с.
- Sandberg, K. (2018) Monumenta, Documenta, Memoria: Remembering and Imagining the Past in Late Republican Rome. In: Kaj Sandberg & Christopher Smith, (eds.). Omnium Annalium Monumenta: Historical Writing and Historical Evidence in Republican Rome. Leiden and Boston, Brill, pp. 351-389.
- Санфилиппо Ч. Курс римского частного права: учебник / пер. с итал. И.И. Маханькова; под общ. ред. Д.В. Дождева. М.: Норма, 2007. 464 с.
- Schwegler, A. (1853) Römische Geschichte. Tübingen, H. Laupp'schen Buchhandlung. (in German).
- Спиридонов Л.И. Теория государства и права: курс лекций. Спб.: АООТ «ТПНИИ-5», 1995. 301 с.
- Strachan-Davidson, J. L. (1912) Problems of the Roman Criminal Law. T. 1. Oxford, Clarendon Press.
- Циркин Ю.Б. История Рима. Царский Рим в Тирренской Италии. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2020. 516 с.
- Вико Дж. Основания Новой науки / пер. с итал. М.: REFL-book - ИСА, 1994. 656 с.
- Кембриджская история древнего мира. Т. ѴП, кн. 2. Возвышение Рима: от основания до 220 года до н. э. / под ред. Ф.-У. Уолбэнка, А.-Э. Астина, М.-У. Фредериксена, Р.-М. Огилви, Э. Драммонда; пер. с англ. М.: Ладомир, 2015. 968 с.
- Walt, S. (2011) Der Historiker C. Licinius Macer: Einleitung, Fragmente, Kommentar. Berlin, B.G. Teubner. (in German).
- Wiseman, T.P. (2014) Popular Memory. In: K. Galinsky (ed.). Memoria Romana: Memory in Rome and Rome in Memory. Ann Arbor, University of Michigan Press, pp. 43-62.
- Wiseman, T.P. (1998) Roman Drama and Roman History. Exeter, Devon, UK, University of Exeter Press.
- Wiseman, T.P. (2008) Unwritten Rome. Exeter, England, University of Exeter Press.
Дополнительные файлы