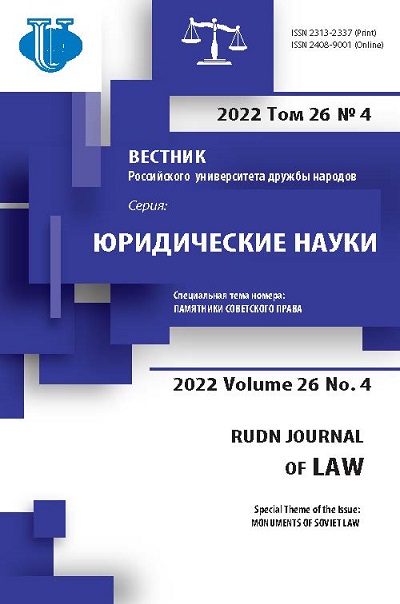Гражданский кодекс РСФСР 1922 года: особенности рождения и счастливой судьбы
- Авторы: Кузнецов М.Н.1
-
Учреждения:
- Российский университет дружбы народов
- Выпуск: Том 26, № 4 (2022): ПАМЯТНИКИ СОВЕТСКОГО ПРАВА
- Страницы: 826-844
- Раздел: ГРАЖДАНСКОЕ И ТРУДОВОЕ ПРАВО
- URL: https://journals.rudn.ru/law/article/view/32971
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2337-2022-26-4-826-844
- ID: 32971
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Посвящена выявлению концептуальных правовых проблем, связанных с условиями и перспективами «революционной целесообразности» в процессе разработки положений Гражданского кодекса РСФСР 1922 года. Правовая парадигма того времени была подвергнута глубинной трансформации на основе идей «народного достояния», «классового интереса», «советской власти» и т.д. Понимание исторических, социально-политических и культурных процессов позволило осуществить анализ норм т.н. пролетарского права. Установлено, что принятию Гражданского кодекса 1922 года предшествовала многолетняя титаническая работа огромного количества высококлассных дореволюционных юристов, подготовивших на высочайшем профессиональном уровне Гражданское уложение России к 1914 году, нормы которого, слегла припудренные классовым пролетарским сознанием, были взяты за основу (всего более 400) Гражданского кодекса РСФСР 1922 года. Положение данного кодекса эффективно действовали вплоть до 1964 года, когда был принят новый Гражданский кодекс РСФСР - кодекс « победившего социализма », пережив отмену НЭПа, индустриализацию и коллективизацию страны, Конституцию 1936 года, Великую Отечественную войну и, наконец, построение социализма в одной отдельно взятой стране. Таким образом, принятие Гражданского кодекса РСФСР 1922 стало эпохальным событием в жизни народов нашей многонациональной страны, которое по значимости своего воздействия на русскую цивилизацию и весь зарубежный мир может быть сравнено с «Corpus iuris romani».
Об авторах
Михаил Николаевич Кузнецов
Российский университет дружбы народов
Автор, ответственный за переписку.
Email: kuznetsov-mn@rudn.ru
ORCID iD: 0000-0001-7229-1351
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры гражданского права и процесса и международного частного права, Юридический̆ институт, Почетный работник высшего профессионального образования, Ветеран РУДН
Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6Список литературы
- Берман Я. Марксизм и гражданский кодекс // Советское право. 1922. № 3. С. 82-112.
- Долинская В.В. Развитие основных положений Гражданского кодекса: на примере ГК РСФСР 1922 г. // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2016. № 10 (26). С. 52-68. https://doi.org/10.17803/2311-5998.2016.26.10.052-068
- Dudin, M.N., Frolova, E.E. & Kuznetsov, M.N., et al. (2016) Russia in Global Economy and International Relations: Economic Aspect of Social and Economic History of the 2nd Half of the 19th Century. International Journal of Economic Research. 13(9), 3803-3813.
- Dudin, M.N., Smirnov, W.V. & Rusakova, E.P. (2017) The Formation of Entrepreneurship in Russia: Historical Background and Modernity. Bylye Gody. 46 (4), 1174-1183. https://doi.org/10.13187/bg.2017.4.1174
- Гойхбарг А.Г. Основы частного имущественного права. Очерки. М.: Красная Новь, 1924. 136 c.
- Гуляев А.М. Основные положения общей части Гражданского Кодекса и субъекты права по Гражданскому кодексу // Техника, экономика и право. Киев. 1924. № 2. С. 43-52.
- Курский Д.Н. На путях развития советского права. М.: Юридическое изд-во НКЮ. РСФСР, 1927. 118 с.
- Ленин В.И. О задачах Наркомюста в условиях новой экономической политики. Письмо Д.И. Курскому // Полное собрание сочинений. Т. 44. М.: Политиздат, 1970. С. 394.
- Ленин В.И. Владимир Ильич Ленин: Биографическая хроника. М.: Политиздат, 1970-1982. 7000 с.
- Маковский А.Л. Развитие кодификации гражданского законодательства // Развитие кодификации советского законодательства / отв. ред.: Братусь С.Н. М.: Юрид. лит., 1968. С. 139.
- Маковский А.Л. Гражданское законодательство в советской плановой экономике и в рыночной экономике России // Журнал российского права. 2005. № 9 (105). С. 115-128.
- Максимова О.Д. Роль Д.И. Курского в формировании идей советского права и в законотворчестве // Правоведение. 2014. № 4 (315). С. 225-236.
- Мамычев А.Ю., Ким А.А., Фролова Е.Е. «Будущее» как аттрактор современных политико-правовых и социально-экономических трансформаций: обзор основных проблем и подходов // Advances in Law Studies. 2020. Т. 8. № S5. С. 3-17. https://doi.org/10.29039/2409-5087-2020-8-5-3-17
- Новицкая Т.Е. Гражданский кодекс РСФСР 1922 года. М.: Зерцало-М, 2012. 262 с.
- Рузанова В.Д. Гражданский Кодекс РСФСР 1922 года: предпосылки принятия и преемственность правового регулирования // Юридический вестник Самарского университета. 2016. Т. 2. № 2. С. 37-42.
- Shakhov, O.F., Shakhova, M.S. & Rusakova, E.P. et al. (2019) Development of Entrepreneurship During the Nep Years: Innovation, Forms, Technologies. International Journal of Recent Technology and Engineering. 2019. 8 (3), 7401-7405. https://doi.org/10.35940/ijrte.C6149.098319
- Шишков О.Ф. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 года - памятник советской уголовно-правовой мысли // Правоведение. 1980. № 3. С. 83-88.
- Стучка П.И. Заметки о классовой теории права // Советское право. 1922. № 3. С. 17-18.
- Стучка П.И. Классовое государство и гражданское право. М.: Изд-во Социалистической акад., 1924. 78 с.
- Энциклопедия государства и права / под ред. П. Стучка. М.: Изд-во Коммунистической Академии. 1925. 1456 с.
- Стучка П.И. Курс советского гражданского права. Введение в теорию гражданского права. М.: Изд-во Коммунистической Aкадемии, 1928. 231 с.
- Стучка П.И. Марксистское понимание права // Избранные произведения по марксистско-ленинской теории права. Рига: Латгосиздат, 1964. 748 c. (in Russian).
Дополнительные файлы