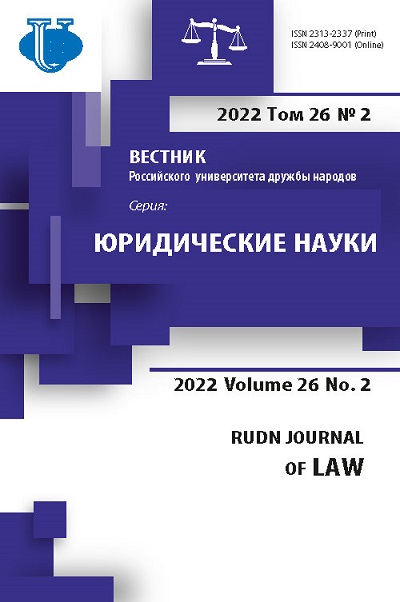Энрико Ферри об уголовном процессе
- Авторы: Трефилов А.А.1
-
Учреждения:
- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
- Выпуск: Том 26, № 2 (2022)
- Страницы: 433-447
- Раздел: ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
- URL: https://journals.rudn.ru/law/article/view/31093
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2337-2022-26-2-433-447
- ID: 31093
Цитировать
Аннотация
Автор рассматривает взгляды выдающегося итальянского криминолога Энрико Ферри на различные вопросы уголовного судопроизводства, высказанные им в «Уголовной социологии». Проанализированы его рассуждения о целях правосудия, о проблеме стабильности уголовного кодекса в контексте его применения в уголовном процессе, о необходимости единства гражданской и военной юстиции. Приведены аргументы против предложения Энрико Ферри предусмотреть перечень исключений из принципа презумпции невиновности. Любопытны взгляды мыслителя о целесообразности отказа от принципа коллегиальности и от суда присяжных. Рассмотрены взгляды данного ученого на три вида приговоров (оправдательный, обвинительный и оставление под подозрением) и на необходимость мотивировать итоговый акт правосудия в каждом уголовном деле. Обогащают современную науку уголовного процесса и не теряют своей актуальности рассуждения Энрико Ферри об амнистии и помиловании, о реабилитации, о пересмотре оправдательных приговоров, о допустимости поворота к худшему в проверочных производствах. Данная статья может быть интересна всем, кто интересуется проблемами уголовного процесса, уголовного права и криминологии, а также историей этих юридических наук.
Об авторах
Александр Анатольевич Трефилов
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Автор, ответственный за переписку.
Email: trefilovaa1989@gmail.com
ORCID iD: 0000-0001-7086-9850
кандидат юридических наук, доцент, Департамент систем судопроизводства и уголовного права факультета права
Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 11Список литературы
- Barzilai, S. (1883) La recidiva e il metodo sperimentale: Appunti critici sulla “Recidiva nei reati” dell’avvocato Giuseppe Orano. Roma, Mantellate.
- Beccaria, C. (2004) On Crimes and Punishments. Indianapolis, Bobbs-Merrill.
- Brun, M. (2011) Der Untersuchungsbefehl im Militärstrafprozess. Luzern. Available at: https://www.unilu.ch/fileadmin/fakultaeten/rf/institute/staak/MAS_Forensics/dok/Masterarbeiten_MAS_3/Brun_Marcel.pdf
- Ломброзо Ч. Преступление. Новейшие успехи науки о преступнике. Анархисты: монография. М.: ИНФРА-М, 2020. 314 с.
- Барабанов П.К. Уголовный процесс Италии. М.: Спутник+, 2019. 461 с.
- Donatsch, A., Hansjakob, T., Lieber, V., & Summers, S. (2014) Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO). Zürich, Schulthess Verlag.
- Дриль Д.А. Преступность и преступники. Учение о преступности и мерах борьбы с ней. М.: ИНФРА-М, 2010. 770 с.
- Ферри Э. Уголовная социология. М.: ИНФРА-М, 2009. 658 с.
- Ферри Э. Преступные типы в искусстве и литературе. СПб.: С.Е. Коренев и К°, 1908. 175 с
- Ферри Э. Социализм и позитивная наука / пер. Л. Истомина. СПб.: В.Д. Корчагин, 1906. 69 с
- Габриэль де Тард. Преступление и преступник. Сравнительная преступность. Преступления толпы. М.: ИНФРА-М, 2009. 391 с
- Судоустройство и правоохранительные органы / под ред. Л.В. Головко. М.: Городец, 2020. 768 с
- Ендольцева А.В., Подустова О.Л. Обеспечение в ходе предварительного следствия возмещения потерпевшему вреда, причиненного преступлением. М.: Юрлитинформ, 2021. 144 с
- Кони А.Ф. Нравственные начала уголовного процесса. Уголовный процесс: нравственные начала. М.: СГУ, 2006. 150 c.
- Криминология: учебник для студентов вузов / науч. ред. Кузнецова Н.Ф., Лунеев В.В. М.: Волтерс Клувер, 2004. 629 с.
- Liszt, Franz von (1900) Lechrbuch des deutschen Strafrechts. Berlin, J. Guttentag.
- Lutz, Meyer-Goßner (2008) Strafprozessordnung: StPO, Kommentar, München, C.H. Beck.
- Познышев С.В. Криминальная психология. Преступные типы. О психологическом исследовании личности как субъекта поведения вообще и об изучении личности преступника в частности. М.: ИНФРА-М, 2009. 300 с
- Руссо Жан-Жак. Трактаты. М.: Наука, 1969. 704 с.
- Серебренникова А.В. Нужен ли нам мораторий на внесение изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации: постановка вопроса // Российский следователь. 2017. № 5. С. 21-26
- Шостак М.А. Уголовный процесс. Минск: БГУ, 2008. 460 с.
- Случевский В.К. Учебник русского уголовного процесса. Введение. Ч. I: Судоустройство. М.: Зерцало-М, 2014. 398 с.
- Трефилов А.А. Уголовный процесс зарубежных стран. М.: Восход-А, 2020. 1120 с.
Дополнительные файлы