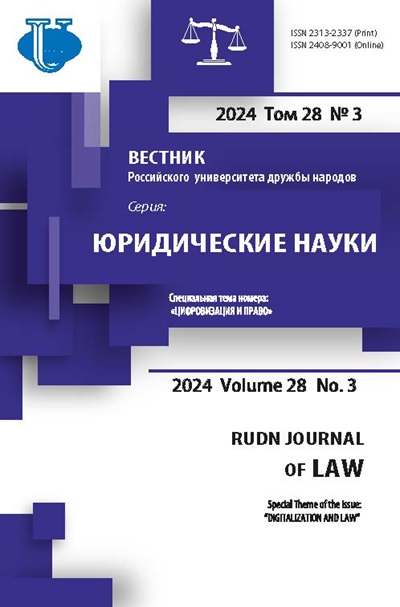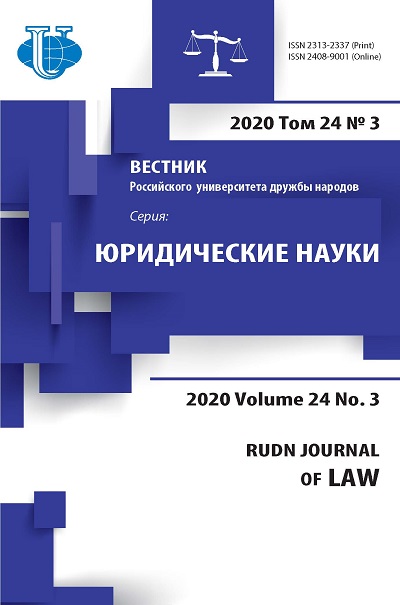НЕЙРОМАРКЕТИНГ И СВОБОДА ВОЛИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
- Авторы: Лихтер П.Л.1
-
Учреждения:
- Пензенский государственный университет
- Выпуск: Том 24, № 3 (2020)
- Страницы: 658-672
- Раздел: ПРАВО И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
- URL: https://journals.rudn.ru/law/article/view/24566
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2337-2020-24-3-658-672
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Исследование посвящено актуальным проблемам права в сфере применения нейромаркетинга. Переход от товарной экономики к экономике впечатлений во многом связан с тем, что все чаще крупные компании используют новые методы мониторинга работы мозга для повышения эффективности производственной и торговой стратегий. Из-за потенциальной возможности влиять на процесс принятия решений клиентов нейромаркетинг вызывает неоднозначные оценки со стороны юристов и психологов. Действующее законодательство не обеспечивает надлежащий уровень регулирования нейроисследований и порядка использования их результатов на рынке. В то же время преддоговорное воздействие на потребителя может содержать признаки искажения принципов свободы договора, добросовестности и разумности. В статье предлагается рассмотреть рациональное поведение индивида - одну из основных презумпций гражданского права - с новой позиции, учитывая актуальные результаты нейропсихологических исследований и этико-правовые аспекты общественных отношений. По результатам работы делаются выводы о принципиальной возможности ограничения динамической формы свободы воли в договорном обязательстве (вплоть до отказа от сделки) при наличии условий, связанных как непосредственно с психофизиологическими характеристиками контрагента, так и с особенностями нейромаркетингового воздействия по конкретному договору. Отмечается актуальность иерархических концепций автономии воли, в которых индивидуальный выбор подлежит правовой защите, если он отражает подлинную волю, соответствующую эссенциальным целям и ценностям субъекта. Отсутствие пороков осведомленности и добровольности в таких случаях является ключевым аспектом реализации принципов свободы договора и разумности, связанных с принятием осознанного решения при вступлении в обязательство.
Полный текст
Введение Начало нового тысячелетия ознаменовалось интенсивным применением достижений когнитивных наук в торговой, финансовой и иных сферах. Покупатель как участник гражданско-правовой сделки на определенных этапах может даже не догадываться о том, что стал объектом методического воздействия технологий нейромаркетинга. Это направление науки сформировалось в начале XX века для изучения рациональных, эмоциональных и сенсомоторных реакций человека на стимулы, которые могут побудить совершить покупку. Один из его создателей - профессор Э. Смидтс - отмечает, что с помощью нейротехнологий можно лучше понять клиента и его реакцию на маркетинговые раздражители путем прямого измерения процессов в мозге (Morin, 2011:131-135). Помимо прочего, нейромаркетинг способствует разработке методов побуждения потребителя к заключению гражданско-правовой сделки еще до того, как он выработает осознанную позицию. Прикладные задачи нейромаркетинга состоят в следующем: 1) установление способов наиболее эффективного воздействия на мозг и нервную систему клиента путем создания определенной рекламы; 2) выбор стратегии ценообразования, брендирования, общего позиционирования компании и товара; 3) применение результатов исследования психофизиологических реакций для влияния не только на покупателя, но и на поставщиков, партнеров, общественность; 4) увеличение потребления за счет изучения процессов покупательского поведения в целом. Указанные задачи разрешаются, основываясь на гипотезе о том, что подсознательные процессы человеческой психики имеют определяющее значение при принятии решений о покупках. Соответственно, понимание психофизиологических аспектов формирования намерения о приобретении товара открывает возможности для выработки у человека некоторых поведенческих паттернов. На первом этапе нейромаркетинговые эксперименты проводятся в лабораторных условиях с помощью специального оборудования для фиксации реакции человека на визуальные, обонятельные, смысловые и иные раздражители; анализируются изменения активности разных участков головного мозга и связанные с ними внешние проявления. Методы исследований включают в себя регистрацию параметров работы сердечно-сосудистой системы, сокращений лицевых мышц, движения глаз, кожно-гальванической реакции, психолингвистический анализ. Для экспериментов используются электроэнцефалография, магнитоэнцефалография, транскраниальная магнитная стимуляция и др. Собственными исследовательскими лабораториями обладают корпорации Coca-Cola, General Motors, Procter&Gamble и др. После лабораторной апробации сбор эмпирических данных продолжается с участием реальных покупателей. Крупные организации составляют психографический профиль клиента: особенности его восприятия лингвистической, визуальной и другой рекламной информации (Pominov, 2019:44-47). Делается это в целях выстраивания маркетинговых стратегий на основе сведений о психологическом своеобразии различных групп покупателей, прогнозирования логики поведения при вступлении в гражданско-правовые отношения. Помимо психографики непосредственно в торговых залах или офисах анализу подвергаются биометрические данные посетителей, в том числе: частота дыхания, частота сердечных сокращений, изменение электрического сопротивления кожи и т.п. В России нейромаркетинговые технологии применяют операторы сотовой связи, сетевой ритейл, банковские структуры. Компании широко используют автоматические системы распознавания эмоций в своих офисах через специальные камеры наблюдения: считывают мимику посетителей; после чего алгоритм оценивает и систематизирует данные. Безусловно, клиент не посвящается во все нюансы, цели и задачи нейромаркетинговых технологий. Таким образом, в современных условиях начало двухсторонних договорных отношений зачастую не осознается покупателем. Однако практика преддоговорного воздействия в отдельных случаях содержит признаки искажения принципов свободы договора и добросовестности. Уже сегодня нейромаркетинг является неотъемлемой частью производственного цикла, маркетинговых и экономических процессов. Его результативность может обеспечивать существенное конкурентное преимущество, которое должно достигаться без нарушений потребительских и иных прав человека. Для этого нужна не только корректировка действующего законодательства, но и поиск баланса базовых принципов гражданского права. Это обусловлено вызовами в областях этики нейромаркетинга и нейромаркетинга этики. Первое направление связано с необходимостью разработки общеобязательных стандартов нейроисследований, внесения изменений в законодательство о рекламе, защите прав потребителей. Второе направление предполагает неизбежный учет определенных ценностных ориентиров для противодействия рискам общества потребления. С теоретической точки зрения регулирование правоотношений по поводу нейромаркетинга базируется на разрешении «вечных» вопросов о взаимосвязи рационального и иррационального, логического и интуитивного, случайного и причинного поведения. Психофизиология человека и этико-правовые проблемы нейромаркетинга Известный нейробиолог Б. Либет в 1980-х годах доказал, что между реакцией мозга и принятием решения всегда есть временной промежуток (Libet, 1985:566). Этот «потенциал готовности» можно установить путем замера времени с момента регистрации активности определенного участка мозга (по данным электроэнцефалограммы) до момента совершения какого-либо действия (например, нажатия на клавишу). В экспериментах Б. Либета и его коллег время реакции могло достигать от 0,5 до 7 секунд, что является огромным интервалом по меркам нейрофизиологии. Затем опыты с активностью отдельных участков головного мозга продолжились с целью не просто замерить «потенциал готовности», но определить решение человека по данным аппаратуры до непосредственного действия (Soon, Brass, Heinze, John-Dylan, 2008:543). Точность такого рода «предсказаний» существенно превышала 50%. Если выводы Б. Либета достаточно радикальны и ставят под сомнение саму автономию воли человека как рационального агента, то эксперименты нейробиолога И. Фрейда (Smith, 2011:23) по крайней мере аргументируют гипотезу о том, что осознание приходит на более поздней стадии принятия решения, чем считалось ранее. Подобные опыты могут интерпретироваться различным образом и не являются однозначным доказательством детерминированности намерения индивида, но они ставят вопрос о пределах автономии воли человека с точки зрения повседневной деятельности, в том числе при вступлении в гражданско-правовые отношения. Результаты рассмотренных исследований и построенные на них концепции нейронаук входят в определенное противоречие с теорией свободы воли, сложившейся в юридической науке. Гражданское право не допускает разделение субъекта договора на мозг и тело (личность и ткань), а субъективное отношение к сделке - на этапы рационального решения и бессознательного намерения. С другой стороны, для психологии, биологии, когнитивных наук несвойственен подход, в котором приравниваются понятия «человек» и «индивид», «индивид» и «мозг», «мозг» и «тело». Более того, достижения нейрофизиологии необходимо предполагают дальнейшее дедуктивное движение: определение участков мозга, «ответственных» за различные звенья процесса при осуществлении выбора человеком. Часть головного мозга - гиппокамп - отвечает за распознавание товара, который клиент ранее видел в рекламе, миндалевидное тело дополняет этот факт эмоциональным отношением к нему, а в лобной доле неокортекса формируются рациональные доводы о целесообразности конкретной гражданско-правовой сделки. Знание указанных процессов и других особенностей передачи информации между отделами мозга, отвечающими за эмоции или рациональное принятие решений, становится основой для разработки нейромаркетинговых технологий; позволяет производителям увеличить количество спонтанных покупок. Выводы нейробиологов не подтверждают неизбежную эмоциональную предопределенность договорного правоотношения, но доказывают, что волевое решение при осуществлении выбора частично может формироваться в сфере бессознательного. Человек способен рациональным усилием остановить процесс, запущенный в определенных участках мозга, но без этических, правовых и иных ограничителей сделать это значительно сложнее. Помимо прочего, применение методик нейромаркетинга затрагивает ряд этико-правовых проблем: обеспечение конфиденциальности нейроисследований; потенциальное навязывание широкому кругу покупателей решений, выработанных на основе анализа реакций малой группы; возможность дискриминации по ряду признаков (так, люди с психическими или физиологическими особенностями, как правило, не попадают в выборку); использование результатов нейроисследований с целью распространения товара, наносящего ущерб здоровью, экологической безопасности; уязвимость при принятии решений о покупке людьми с ослабленной способностью рационального выбора в силу разных причин (возраста, болезни, настроения) и другие нарушения прав покупателя. В зарубежных странах уже сложилось понимание необходимости внешнего регулирования правоотношений непосредственно в сфере проведения и использования результатов нейроисследований. Ассоциацией нейромаркетинговых наук и бизнеса был разработан Кодекс этики нейромаркетинговых исследований[58]. Документ разработан в целях восстановления доверия общественности к деятельности нейромаркетологов; обеспечения защиты конфиденциальности участников исследования; защиты компаний, заказывающих нейромаркетинговые исследования. Его положения обязывают исследователей не вводить участников экспериментов в заблуждение, пользуясь их недостаточными знаниями в нейробиологии; запрещают вовлекать участников в рекламные акции или навязывать им определенные товары после проведения обследования; задачи исследования должны быть ясно доведены до всех участников опытов; участники обладают правом на любой стадии исследования отказаться от дальнейшего участия и потребовать удаления данных об их персональном участии в проекте. Присоединение к Кодексу этики является обязательным условием для всех организаций (в их числе есть несколько российских), которые вступают в Ассоциацию нейромаркетинговых наук и бизнеса. Однако единственной санкцией за нарушение рассматриваемого Кодекса является прекращение членства в ассоциации. Представляется, что сегодня сложились предпосылки для принятия специализированного нормативного акта либо включение совокупности норм в действующие кодифицированные акты для регулирования рассматриваемых отношений. К наиболее актуальным направлениям охраны прав и свобод человека на современном уровне развития когнитивных наук следует отнести защиту конфиденциальности клиентов, недопустимости недобросовестных практик в рекламе, возможности признания недействительными сделок, совершенных под воздействием нейромаркетинга. Попытки разрешения перечисленных проблем неизбежно приводят к выводу о том, что сегодня неоправданно выстраивать глухие стены между психофизиологическими, социальными и этико-правовыми аспектами противодействия сущностным рискам развития общества. Формирование и функционирование правовых институтов неизбежно предполагает экстерналистский путь, основанный на достижениях различных отраслей знаний. Результаты исследований когнитивных особенностей индивида предоставляют возможность поновому взглянуть на ряд юридических коллизий, стоящих перед человеком. Особенность такой методологии заключается в том, что она является не только междисциплинарной, но и межуровневой. Поставленные вопросы предполагают учет закономерностей взаимодействия между процессами следующих уровней: 1) нейробиологического (специфика механизмов работы мозга и нервной системы при принятии решений о покупке); 2) психологического (когнитивные паттерны при осуществлении выбора); 3) социального (различные аспекты влияния общественной среды на гражданско-правовые отношения); 4) этико-правового (совокупность контекстуальных факторов поведения индивида при установлении внутренних и внешних границ возможного поведения). Один из главных вопросов юридической науки в свете приведенной межуровневой методологии будет связан с пониманием того, на основе каких принципов и алгоритмов должно формироваться гражданское право в условиях социальных коммуникаций, чтобы быть принятым человеком как биологическим видом. Сторонники развития нейромаркетинга подчеркивают его пользу для потребителей: он способствует пониманию того, какие вещи действительно нужны людям; какие факторы наиболее эффективны при убеждении клиента в покупке полезного и качественного товара. Однако психофизиологическое воздействие также может быть использовано для навязывания ненужных товаров и обеспечения прочной привязанности к бренду. Интенсивное воздействие на эмоции, а не разум клиента влечет дальнейшее расширение потребления, что создает риски для социальной и экологической безопасности. Согласно положениям Конституции (пункт 3 статьи 55) и Гражданского кодекса России (пункт 2 статьи 1) гражданские права могут быть ограничены в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц. Значимость перечисленных угроз позволяет говорить о возможности ограничения нейропрактик. Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно указывал на то, что свобода договора сама по себе не должна приводить к умалению других общепризнанных прав и свобод человека; не является абсолютной и может быть ограничена[59]. Однако характер подобных ограничений в каждом конкретном случае должен определяться на основе конституционного положения о значимости интересов, ради которых сужается свобода договора. Обычаи отношений в рамках купли-продажи не предполагают поиск уязвимости когнитивных и эмоциональных реакций покупателя в целях заключения договора на основе чувственного, а не рационального выбора. Это особенно важно, если в результате спонтанной сделки человек оказывается в тяжелом финансовом положении. Значительный рост потребительского кредитования, иные социальные и экологические риски заставляют рассматривать отношения между крупными торговыми корпорациями и населением с точки зрения отраслевого принципа о запрете заведомо недобросовестного осуществления гражданских прав. В таком случае возможность ограничения свободы договора будет зависеть как от критериев, непосредственно связанных с психофизиологическими характеристиками стороны сделки, так и от внешних условий, к которым следует отнести общие негативные последствия ее совершения, в том числе угрозы социальной стабильности и другие проблемы полноценного развития общества и государства. Нейромаркетинг и свобода договора Нейромаркетинг обладает большим потенциалом для ограничения свободы воли индивида по сравнению с традиционными рыночными инструментами. Однако важность сферы гражданских правоотношений не допускает широкое использование методов манипулирования бессознательными импульсами человека. В целях исключения такого рода рисков необходимо, прежде всего, найти общие подходы различных отраслей знаний: сравнить понимание свободы воли в когнитивных науках и в праве. Психофизиология толкует свободу воли как субъективную способность к действию, предполагающую его инициирование, управление и контроль над ним. При этом отмечается, что ошибки интроспекции и другие когнитивные искажения не позволяют провозглашать ее абсолютность (Wilson, Dunn, 2004:493). У человека нет полного доступа ко всем внутренним процессам, в результате чего происходит неизбежная деформация восприятия собственных чувств и эмо- ций. Условность свободы воли, помимо прочего, подтверждается невозможностью четкого разделения интуитивной идеи и осознанного намерения. В свою очередь, доктринальное понимание свободы воли в цивилистике формируется на основе категории гражданской правосубъектности, как индивидуальная свобода добровольно и независимо принимать решение об участии в конкретном гражданском правоотношении и определять его условия (Mandzhiev, 2017:12). Ключевой принцип частного права сформулирован в статье 1 Гражданского кодекса Российской Федерации: физические и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе; не допускается понуждение к договору, за исключением ограниченного числа случаев. Эти основополагающие начала обеспечивают гибкое и инициативное осуществление предпринимательской деятельности, а также развитие экономической сферы общественных отношений. Выдающийся русский цивилист И.А. Покровский, рассуждая о различиях концепции воли и концепции волеизъявления при вступлении в обязательственные отношения, убедительно обосновывал приоритет первой для гражданского права: «все новейшие законодательства в виде основного принципа в области договоров признают принцип не изъявления, а воли: только согласная и подлинная воля сторон может послужить основанием для возникновения предполагаемых договором прав и обязанностей. В нормальной гражданскоправовой жизни не слепая случайность, а только сознательная и свободная воля людей может быть поставлена в качестве активного, правотворящего агента. Только в принципе воли может найти себе надлежащее выражение идея частной автономии личности, и отказ от этого принципа лишил бы гражданское право той ариадниной нити, которая единственно может провести его через запутанный лабиринт всевозможных коллизий» (Pokrovskii, 2013:236). С точки зрения юридической доктрины интерес представляет соотношение воли и волеизъявления на различных уровнях единого когнитивного процесса совершения сделки при: а) желании приобрести товар; б) различных чувствах, связанных с этим желанием; в) намерении осуществления сделки; г) принятии рационального решения о вступлении в договорные отношения; д) непосредственных действиях по заключению и исполнению сделки. Сюда также следует отнести проблемы интерпретации, торможения и контроля за перечисленными стадиями многоступенчатого процесса. В гражданском праве свобода воли всегда имеет две формы реализации: статическую (свобода заключения договора) и динамическую (свобода выхода из договора). Таким образом, сама возможность одностороннего отказа от договора является одной из граней свободы воли, и также обеспечивает необходимое развитие экономических отношений. Согласно статье 178 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, совершенная под влиянием заблуждения, может быть признана судом недействительной, если заблуждение было настолько существенным, что одна из сторон, разумно и объективно оценивая ситуацию, не совершила бы сделку. Рассматриваемое положение кодекса содержит оценочное суждение - отсутствие разумной оценки реальной ситуации какой-либо из сторон. Подобные общие формулировки предполагают судебное усмотрение в каждом отдельном случае (Savost'yanova, 2017). На практике суды признают существенным лишь такое заблуждение, которое повлияло на сам факт совершения сделки или связано со значительным искажением условий договора (невозможность использования товара по назначению, неверная сторона сделки и т.п.). При этом суды вправе оценивать психофизиологические особенности заблуждавшейся стороны (например, возраст или болезнь участника соглашения). В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, совершенная под влиянием обмана, может быть признана недействительной по инициативе одной из сторон договора. Обманом считается предоставление недостоверной информации либо намеренное умолчание об обстоятельствах, о которых лицо должно было сообщить при той добросовестности, какая от него требовалась по условиям оборота. Являются ли отдельные составляющие алгоритма нейромаркетинга (сбор информации о психофизиологических реакциях, использование визуальных, обонятельных, смысловых раздражителей; скрытое воздействие на эмоции) теми обстоятельствами, о которых сторона договора не может умалчивать? Совокупность принципов гражданского права предполагает обязанность продавца доводить до сведения клиента полную информацию о применении нейромаркетинговых методик. Отсутствие надлежащего регулирования в части установления четких критериев допустимых границ воздействия на потенциального покупателя при реализации маркетинговых стратегий представляет собой пробел законодательства. Безусловно, при его заполнении необходим поиск баланса интересов потребителя и продавца. В теории права многократно отмечалась недопустимость упрощенного понимания свободы воли человека как субъекта правоотношения. Так, Дж. Дворкин на основании концепции И. Канта предложил выделение нескольких уровней автономии воли (Dworkin, 1988:15-32). По мнению ученого, воля предполагает вторичную способность осознавать и критически относится к своим первичным желаниям и эмоциям[60]. В подобной иерархической системе индивидуальный выбор подлежит правовой защите только в том случае, если он отражает реальную волю, то есть соответствует подлинным (рационально осознанным) целям и ценностям субъекта. Идея разделения инструментальной свободы выбора и эссенциальной автономии воли может иметь значение для признания недействительным дого- вора, заключенного под влиянием нейротехнологий. Конкретное обязательство должно соответствовать целеполаганию на начальных стадиях волевого решения, которое в любом случае будет предусматривать получение определенного блага. Российский правовед В.И. Голевинский в середине XIX века следующим образом констатировал сущность договора: «…для верителя окончательную цель обязательства составляет не действие должника, а та ценность, которую должник переводит на него своим действием, та польза, которую он получает от действия должника» (Golevinskii, 1872:5). Подобный подход дает возможность расторжения гражданско-правовой сделки, если она совершена с применением психофизиологического воздействия, а полученные блага не соответствуют целям приобретения. В этом случае отдельному изучению подлежит вопрос о компенсации потерь продавца из-за отказа другой стороны от обязательства. Однако следует учитывать, что компании, использующие технологии нейромаркетинга, являются профессиональными участниками рынка, на которых в полной мере распространяется важная формула взыскания убытков: «чья прибыль - того и риск» (Krasavchikov, 1966:143). В условиях коллизии принципа свободы экономической деятельности и принципа запрета на злоупотребление правом решение об отказе от подобного договора может быть обосновано с помощью метода взвешивания ряда конституционных и гражданско-правовых ценностей. При этом необходимо учитывать значение такого принципа римского права, как «Jura scripta vigilantibus sunt» (лат. «Законы написаны для бодрствующих»). Представляется, что в каждом отдельном случае вопрос о недействительности договора должен решаться судом с учетом всех сопутствующих обстоятельств по инициативе стороны сделки. В то же время на рынке недопустимы практики введения в заблуждение или агрессивного маркетингового воздействия, которые подлежат ограничению с помощью установления границ должного поведения в законодательстве о рекламе, защите права потребителей и т.д. Их соблюдение может обеспечиваться не только антимонопольными, налоговыми и иными средствами публично-правового регулирования. По аналогии с разработанным в Германии институтом договора с охранительным эффектом (Markensis, Unberath, Johnston, 2006:186), возможно формирование концепции, предусматривающей отход от классической теории относительности ответственности только к сторонам сделки. Тогда иск уполномочены подать третьи лица, чьи интересы пострадали или могут пострадать от деятельности контрагента. Учитывая значимость рассматриваемых правоотношений, необходимо рассмотреть особенности предоставления права вступления в процесс по рассматриваемой категории дел, например, общественным организациям в сфере защиты экологических и потребительских прав человека. В любом случае для ограничения свободы договора нужны убедительные основания, которые бы соответствовали макроэкономическому состоянию общества, политическим предпосылкам и воле населения. Сегодня широко применяется теория мягкого патернализма, которая нашла отражение, например, в таких институтах гражданского права, как возможность признания недействительной сделки, совершенной ребенком либо недееспособным гражданином (Tuzhilova-Ordanskaya, Luk'yanenko, 2019). Посредством подобных запретов реализуется функция по защите свободы договора, связанная с необходимыми предпосылками рационального решения - отсутствием пороков осведомленности и добровольности. Концепция иерархической воли дает теоретические основания для ограничения свободы договора в случае проявлений порока воли, которые могут быть связаны с объективно сложившимися характеристиками (например, тяжелым финансовым положением) или конкретными методами воздействия на покупателя. Ограничение принципа диспозитивности имеет целью восполнение недостающей воли сторон договора, защиту слабой стороны обязательства. Согласно Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О свободе договора и ее пределах»[61] в тех случаях, когда будет установлено, что договор содержал в себе условия, являющиеся явно обременительными для ее контрагента и существенным образом нарушающие баланс интересов сторон, а контрагент оказался слабой стороной, суд может его расторгнуть. Поскольку никто не вправе извлекать преимущество из своего недобросовестного поведения, слабая сторона договора обладает правомочием заявить о недопустимости применения несправедливых условий или об их ничтожности. Обычно требование добросовестного поведения в правовых актах соседствует с презумпцией разумности сторон договора, как, например, в статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации: «добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются». Несмотря на то, что законодатель часто обращается к данному термину: «разумность ожиданий» (статья 434.1 Гражданского кодекса), «разумность предвидения» (статья 451), «разумно понимаемые интересы» (статья 428), «разумная цена» (статья 524), - в целом по поводу принципа разумного поведения участников гражданского оборота у правоведов нет единого мнения. Различные исследователи на первый план выносят такие важные аспекты разумности, как осмысленность, логичность, целесообразность поведения субъекта (Em, 2004:531); чувство меры, рационального понимания объективной реальности (Vaypan, 2018), правомерность, заинтересованность (Vanin, Tihonov, 2019:26-28). Сегодня необходимы конкретизация и разграничение принципов разумности, добросовестности, справедливости, в том числе с учетом достижений в области когнитивных, биологических и психологических наук. В противном случае получается, что с точки зрения права допускается построение «разумных» интересов и осуществление действий на нерациональных психических процессах. Неотъемлемыми составляющими реализации принципа разумности являются действия, основанные на здравом смысле, осознанном и рациональном выборе, соразмерном обмене благ между сторонами, экономической предусмотрительности, недопустимости нанесения вреда третьим лицам и значимым общественным интересам. Разумность в ее гражданско-правовом измерении нельзя понимать в сугубо утилитаристском смысле: лишь как возможность получения стабильного и максимального дохода. Следует учитывать совокупность социальных последствий для слабой стороны обязательства и общества в результате широкого распространения сделок, основанных на эмоциях, а не рациональном выборе. Заключение Научные достижения в области нейробиологии и психологии позволили не только наблюдать за процессами принятия решений человеком в различных ситуациях, но и во многом корректировать их направление. Прикладные разработки нейромаркетинга ориентированы на формирование у индивида определенных поведенческих паттернов. С одной стороны, к их плюсам относится возможность рассматривать мышление потребителя системно и объективно; совершенствовать государственную политику в целях создания условий для осознанного выбора. С другой стороны, интенсивное воздействие на покупателя в условиях асимметричности информации по сделке содержит риски искажения основных гражданско-правовых принципов. Установление научно обоснованных этико-правовых границ позволит продвинуться в понимании логики поведения потребителя, обеспечить его права, а также создать предпосылки для полноценного развития современного общества. Подводя итог исследованию нейромаркетинга с точки зрения свободы договора, можно сделать несколько выводов. 1) Сегодня концепции ряда нейрофизиологов о процессе формирования рационального решения входят в определенное противоречие с теорией автономии воли, сложившейся в юриспруденции. В связи с этим необходима разработка новой междисциплинарной методологии, которая позволит учитывать закономерности взаимодействия нейробиологических и психологических процессов, требующих на некоторых уровнях разрешения социальных и этикоправовых вопросов. 2) Значительный рост потребительского кредитования, социальное расслоение и иные проблемы предполагают рассмотрение применения нейротехнологий с точки зрения отраслевых принципов о запрете недобросовестного осуществления гражданских прав и возможности одностороннего отказа от сделки при нарушении автономии воли. 3) Прекращение договора возможно для защиты его слабой стороны при проявлениях порока воли, которые могут быть сопряжены с конкретными методами воздействия на эмоции и чувства покупателя. Отсутствие пороков осведомленности и добровольности в таких случаях является ключевым аспектом реализации принципа свободы договора, связанного с необходимостью обеспечения рационального решения при вступлении в обязательство. 4) В целях полноценного обоснования подобных ограничений важна формальная конкретизация принципов разумности, добросовестности, справедливости. Важнейшие аспекты реализации принципа разумности будут связаны с осознанным выбором, соразмерным обменом благ между сторонами, экономической предусмотрительностью, здравым смыслом, недопустимостью нанесения вреда третьим лицам. 5) Представляется целесообразным дополнить действующее законодательство совокупностью положений по предоставлению полной информации не только о приобретаемом товаре, но и психофизиологических методах, используемых продавцом на стадии производства и продвижения товара. Недобросовестная нейромаркетинговая практика подлежит ограничению путем установления пределов допустимого поведения в нормативно-правовых актах о рекламе, о персональных данных, об этике научных исследований, о защите прав потребителей.
Об авторах
Павел Леонидович Лихтер
Пензенский государственный университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: lixter@mail.ru
кандидат юридических наук, доцент кафедры Частное и публичное право юридического института
440026, г. Пенза, Российская Федерация, ул. Красная, д. 40Список литературы
- Dworkin, G. (1988) The Theory and Practice of Autonomy. Cambridge: Cambridge University Press
- Ем В.С. Осуществление и защита гражданских прав // Гражданское право: Учебник / Под ред. Е.А. Суханова. М.: Волтерс Клувер, 2004. Т. 1. 720 с
- Голевинский В.И. О происхождении и делении обязательств. Варшава: Тип. О. Бергера, 1872. 310 с
- Красавчиков О.А. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. М.: Юридическая литература, 1966. 560 с
- Libet, B. (1985) Unconscious cerebral initiative and the role of conscious will in voluntary action. The Behavioral and Brain Sciences. 8 (4). 529-566
- Lindstrom, M. (2012) Brandwashed: Tricks Companies Use to Manipulate Our Minds and Persuade Us to Buy. L.: Kogan Page
- Манджиев А.Д. Свобода воли в договорных правоотношениях. М.: Статут, 2017. 192 с
- Markensis, S.B., Unberath, H., Johnston, A. (2006) The German Law of Contract. A Comparative Treatise. Oxford; Portland; Oregon.
- Morin, C. (2011) Neuromarketing: the new science of consumer behavior. Society. 2011. 48 (2). 131-135.
- Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 2013. 351 с
- Поминов Д. Чувственный банкинг // Банковское обозрение. 2019. № 3 (242). С. 44-47
- Савостьянова О.Н. Сделки под влиянием существенного заблуждения (статья 178 Гражданского кодекса Российской Федерации): анализ судебной практики после внесения поправок в указанную статью Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ // Юрист. 2017. № 14. С. 31-35
- Smith, K. (2011) Neuroscience vs philosophy: Taking aim at free will. Nature. 477 (7362). 23-50
- Soon, C., Brass, M., Heinze, H., John-Dylan (2008) Unconscious determinants of free decisions in the human brain. Nature Neuroscience. 11 (5). 543-545
- Тужилова-Орданская Е.М., Лукьяненко В.Е. Конвалидация недействительных сделок в российском праве // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2019. № 3. С. 519-539
- Ванин В.В., Тихонов В.В. К вопросу о понятии «разумные действия» в гражданском праве России // Гражданское право. 2019. № 2. С. 26-28
- Вайпан В.А. Принцип справедливости в гражданском праве и судебное усмотрение // Гражданское право. 2018. № 1. С. 22-28
- Wilson, T.D., Dunn, E.W. (2004) Self-Knowledge: Its Limits, Value, and Potential for Improvement. Annual Review of Psychology. № 55 (1). 493-518