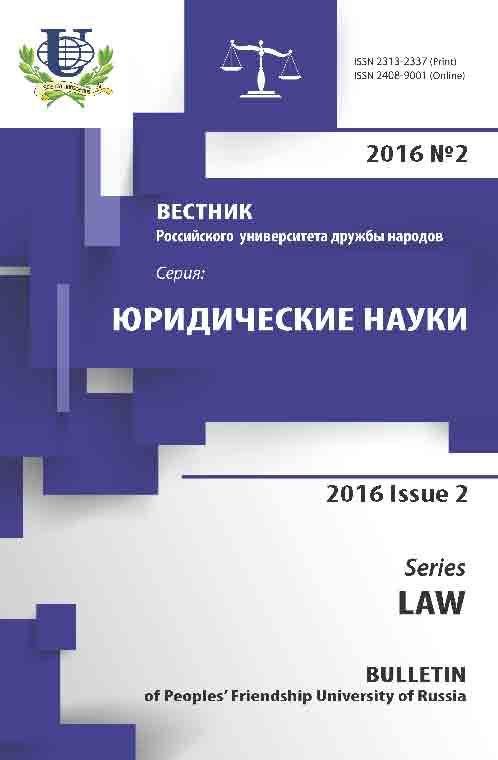Социально-интерактивная природа правовых интересов и их роль в формировании элементов материи права
- Авторы: Трофимов В.В.1
-
Учреждения:
- Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина
- Выпуск: № 2 (2016)
- Страницы: 36-49
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.rudn.ru/law/article/view/14792
- ID: 14792
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье рассматривается и характеризуется роль юридически значимых социальных интересов в процессе формирования элементов материи права. Констатируется связь социума и механизма правового регулирования. Определяется, что социальная сущность права находит свое непосредственное проявление в сумме тех социальных интересов, которые вызывают необходимость их упорядочения посредством права. На основе анализа разработок отечественной юридической доктрины в понятийный аппарат исследования вводится термин «правовая материя» как наиболее характерно отражающий внутреннюю структуру права, представленную совокупностью правовых средств, оказывающих регулятивное воздействие на социальные отношения. Подчеркивается важная роль интересов в общественном и правовом развитии. Именно интересами предопределяется социально-правовая динамика (диалектика формы и содержания права). Интересы рассматриваются как переходное звено от объективного к субъективному этапам процесса формирования права, так как с ними уже связано субъективное осознание объективных факторов, лежащих в основе правообразовательного процесса. Приводятся различные трактовки понятия интереса. Упор делается на характеристику интересов в контексте социальных контактов. Обосновывается социально-интерактивная природа правовых интересов как возникающих в ходе непрерывного социального взаимодействия. Утверждается (в том числе с опорой на этимологию термина), что интерес - это изначально социально-интерактивное явление, которое воспроизводится в процессах социального взаимодействия и выступает для права (правового регулирования) исходной онтологической (жизненно-бытийной) основой. В виде примера приводится возникновение экономических интересов, нуждающихся в правовом опосредовании, в ходе взаимодействия соответствующих носителей экономических интересов. Сходный пример репродуцирования юридически значимых интересов обнаруживается на фоне политического взаимодействия (взаимодействия власти и общества). Устанавливается зависимость характера социально-правовых интересов и типа выражающих их юридических форм. Так, доказывается, что отношения конфликтного типа влияют на формирование негативных правовых средств (запретов, приостановлений, санкций), целью которых является разграничение конфликтующих сторон, снижение уровня напряженности в социальных системах. С другой стороны, отмечается, что ситуации социального сотрудничества (где социальные интересы в целом находятся в согласовании) обусловливают систему позитивных юридических средств (дозволений, стимулов, поощрений), способствующих поддержанию солидарных отношений в социуме. Резюмируется значимость своевременного выявления юридически значимых социальных интересов, что определяется в качестве одной из задач современной правовой политики.
Ключевые слова
право, правовое регулирование, правовая материя, общество, социальные правовые интересы, социальное взаимодействие, социально-интерактивная природа, правовые средства, экономическое взаимодействие, политическое взаимодействие, конфликтное взаимодействие, социальное сотрудничество, императивный метод, диспозитивный метод, правовая политика
Об авторах
Василий Владиславович Трофимов
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина
Email: iptgutv@mail.ru
Институт права и национальной безопасности ул. Советская, 181, Тамбов, Россия, 392000
Список литературы
- Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М.: Норма, 2001. 748 с.
- Алексеев С.С. Право: Азбука. Теория. Философия. Опыт комплексного исследования. М.: Статут, 1999. 712 с.
- Ахиезер А.С., Шуровский М.А. От диалога к диалогизации (в свете концепции В. Библера) // Вопросы философии. 2005. № 3. С. 58-70.
- Вопленко Н.Н. Сущность, принципы и функции права. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 1998. 56 c.
- Гольбах П. Система природы. М.: Соцэкгиз, 1940. 456 с.
- Гурвич Г.Д. Идея социального права // Гурвич Г.Д. Философия и социология права: Избранные сочинения / под ред. М.В. Антонова, Л.В. Ворониной. СПб.: Издательский Дом С.-Петерб. гос. ун-та, Издательство юридического факультета С.-Петерб. гос. ун-та, 2004. С. 41-192.
- Егорова Н.Е., Помазанский А.Е., Потапенко В.С. Интересы в праве: мнение молодых ученых // Журнал российского права. 2005. № 9. С. 149-163.
- Конституция Российской Федерации 1993 года (с учетом поправок, внесенных законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ) // Российская газета. 1993. 25 дек.; Российская газета. 2009. 21 янв.
- Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. СПб.: Издательство Юридический центр Пресс, 2003. 430 с.
- Малько А.В., Шундиков К.В. Цели и средства в праве и правовой политике. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2003. 296 с.
- Мамардашвили М.К. О гражданском обществе // Мамардашвили М.К. Сознание и цивилизация. Тексты и беседы. М.: Издательство «Логос», 2004. С. 54-84.
- Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 2.
- Немытина М.В. Трехмерная коммуникативная модель правообразования // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2015. № 4. С. 59-70.
- Парсонс Т. О социальных системах. М.: Академический проект, 2002. 832 с.
- Поляков А.В. Общая теория права: Феноменолого-коммуникативный подход. СПб.: Издательство Юридический центр Пресс, 2003. 845 с.
- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 12 ноября 2009 г. URL: http://news.kremlin.ru (дата обрашения: 17.01.2016).
- Право ХХ века: идеи и ценности: Сб. обзоров и рефератов / отв. ред. Ю.С. Пивоваров. М.: ИНИОН РАН, 2001. 328 с.
- Радько Т.Н. Актуальные проблемы права. М.: Формула права, 2012. 396 с.
- Смирнова М.Г. Социальные притязания и субъективное право. СПб.: Издательский Дом «Книжный мир», 2008. 136 с.
- Соколова А.А. Социальные аспекты понятия «правообразования». Минск: Европ. гуманитар. ун-т, 2003. 157 с.
- Степанян В.В. Механизм выражения интересов в социалистическом праве // Советское государство и право. 1982. № 5. С. 52-60.
- Степанян В.В. Теоретические проблемы правообразования в социалистическом обществе / отв. ред.: Пиголкин А.С. Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1986. 183 с.
- Тотьев К.Ю. Публичный интерес в правовой доктрине и законодательстве // Государство и право. 2002. № 9. С. 19-25.
- Трофимов В.В. Конфликтное право и право сотрудничества // Журнал российского права. 2011. № 9. С. 40-48.
- Трофимов В.В. Логико-теоретические аспекты построения дефиниции понятия «правообразование» // Юридическая техника. 2008. № 2. С. 49-56.
- Трофимов В.В. Правовой интерес и правовая идея в структуре правообразовательного процесса современного российского общества // Вестник ТГУ. Серия: Гуманитарные науки. Право. 2012. Выпуск 9 (113). С. 375-381.
- Хабриева Т.Я. Национальные интересы и законодательные приоритеты России // Журнал российского права. 2005. № 12. С. 19-29.
- Цирина М.А., Цирин А.М. Конфликты интересов в праве // Правовые модели и реальность: монография / отв. ред. Ю.А. Тихомиров, Е.Е. Рафалюк, Н.И. Хлуденева. - М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2015. С. 194-215.
- Черепахин А.М. Экономические интересы при социализме и их правообразующее значение // Советское государство и право. 1981. № 2. С. 29-37.
- Экимов А.И. Интересы и право в социалистическом обществе. Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. 134 с.
Дополнительные файлы