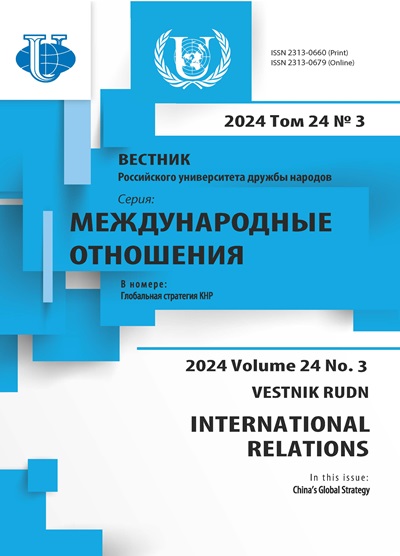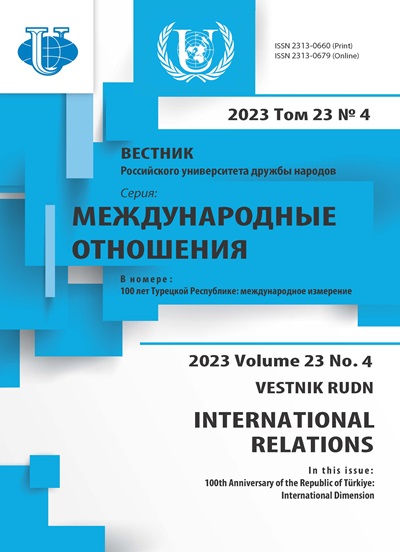Восточный вопрос во взглядах российских либералов начала ХХ в.
- Авторы: Арсланов Р.А.1, Курылев К.П.1, Станис Д.В.1
-
Учреждения:
- Российский университет дружбы народов
- Выпуск: Том 23, № 4 (2023): 100 лет Турецкой Республике: международное измерение
- Страницы: 662-677
- Раздел: ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
- URL: https://journals.rudn.ru/international-relations/article/view/37254
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-0660-2023-23-4-662-677
- EDN: https://elibrary.ru/OJFUME
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Рассматривается отношение российских либералов начала ХХ в. к занимавшему особое место в международной политике Восточному вопросу, обострение которого стало одним из факторов, приведших к Первой мировой войне. Различные политические силы России разрабатывали свои варианты решения этого вопроса, понимая, что от предлагаемых ими проектов во многом зависели судьбы не только страны, но и всего мира. Анализ неоднозначного восприятия либералами действий правительства Российской империи на Балканах, их отношения к южным славянам, проблеме Черноморских проливов и противостоянию объединившихся в союзы великих держав, то есть ко всем аспектам Восточного вопроса, позволит реконструировать и осмыслить понимание либералами связи внешней политики и внутреннего развития России, национальных интересов и идейных ценностей. Оценка взглядов либералов начала ХХ в. на Восточный вопрос дает возможность увидеть не только особенности в его восприятии правящими верхами и представителями легальной оппозиции, но и корни усиливавшегося отчуждения элиты страны от народа. Именно это отчуждение, усугубившееся в годы военного лихолетья и проявившееся наряду с прочим в различном восприятии властью, либералами и народом значения Восточного вопроса, весной 1917 г. привело к падению первого либерального состава Временного правительства. В итоге народ, уставший от войны и не понимавший смысла борьбы России за чужие земли, выступил в поддержку большевиков, разоблачавших «империалистические замыслы» Временного правительства и выступавших за мир без аннексий и контрибуций. Затрагивается проблема отношения либералов не только к внешней политике правительства, но и к российской государственности, объясняются концептуальные причины их перехода от сдержанной миролюбивой позиции и стремления предотвратить войну к ее безоговорочной поддержке. Проанализированы идеологические и внешнеполитические факторы, повлиявшие на этот либеральный транзит. Основное внимание уделяется пониманию представителями различных либеральных течений Восточного вопроса, который, без преувеличения, занял центральное место не только в их внешнеполитической программе, но и в проекте внутренних преобразований, предполагавшем создание в результате его решения Великой России. Выявляется и изучается то новое, что было привнесено либералами в трактовку Восточного вопроса под влиянием не только меняющейся международной обстановки, политической и экономической модернизации России, становившейся «думской монархией», но и развития самой идеологии, отражены особенности восприятия этого вопроса представителями различных либеральных течений страны.
Ключевые слова
Полный текст
Введение
В настоящее время тема отношения отечественных либералов начала прошлого века к Восточному вопросу может показаться академической, представляющей интерес лишь для узкого круга специалистов. На самом же деле ее исследование таит в себе возможности по-новому взглянуть на ряд проблем, волнующих современников. Прежде всего, рассмотрение взглядов либералов прошлого на внешнюю политику имперского государства позволит сравнить не только идейные установки оппозиции начала ХХ и ХХI вв., но и реакцию общества двух эпох на отношение оппозиционеров к действиям правительства на международной арене.
Внешнеполитическая доктрина и практика руководства современной России, взявшего курс на ее возрождение как великой державы, использующего военные методы и пошедшего на решительное противостояние со странами Запада, вызывают, с одной стороны, осуждение со стороны части интеллектуалов, а с другой — поддержку большинства населения. Сегодня, как и в начале ХХ в., обнаруживаются все более усиливающиеся различия в восприятии элитой и массами самого предназначения государства, целей и методов его внешней политики. Идейный опыт либералов начала ХХ в., которые пытались преодолеть социально-политические противоречия и консолидировать общество, власть и элиту вокруг проекта решения Восточного вопроса, ведущего, согласно их предположениям, к созданию либеральной империи — Великой России, может быть учтен и переосмыслен в текущих реалиях. Современные либералы, в отличие от своих предшественников, выступают против имперских планов, критикуют власть за политику, прежде всего в отношении Украины. Они отстаивают необходимость восстановления сотрудничества с государствами Запада, видят в них не только эффективного партнера, но и образцовую модель развития страны.
Таким образом, актуальность темы определяется прежде всего необходимостью осмысления теоретического поиска российских либералов начала ХХ в., выявления, с одной стороны, степени релевантности их внешнеполитических проектов требованиям времени и общенациональным интересам, а с другой — оригинальных предложений, дающих возможность реализовать поставленные цели и добиться, как оказалось, невозможного — триумфа либерализма в стране.
Актуальность теме придают и существующие между либеральной элитой и массовым сознанием различия в восприятии международной обстановки и задач внешней политики современной России. Как и в начале прошлого столетия, эти группы по-разному воспринимают место России в мире и ее цели на международной арене. Правда, если в 1917 г. народные массы в отличие от либералов выступали за выход из войны и приоритетное решение внутренних проблем, то сегодня, как представляется, произошла инверсия в их позициях. Испытывая постимперский синдром, население поддерживает власть в ее противостоянии Западу, тогда как либералы выступают против экспансионистского и милитаристского, по их мнению, курса.
При всех различиях интерпретаций задач внешней политики страны между либералами прошлого и настоящего сохраняется главное — сам раскол с народом в восприятии не только международного положения России, но и роли государства в жизни страны. Для либералов начала ХХ столетия державность России, ее внешнеполитическое могущество при обеспечении прав и свобод личности, законности и порядка в стране определялись решающей ролью государства. Современные же либералы в укреплении государственности видят тоталитарные интенции, что лишь усиливает различия в миросозерцании не только с предшественниками, но и с большинством населения постсоветской России.
Актуальность темы обусловлена также тем, что у либералов прошлого и настоящего в основе их внешнеполитических построений лежала идея о предопределенности выбора проевропейского цивилизационного вектора развития страны. Однако пропаганда западных ценностей, не учитывающая национальные традиции и особенности страны, вызывала в конечном счете неприятие народным сознанием либерального космополитизма. Причины провала либеральной пропаганды в России также могут привлечь внимание современного общества.
В итоге разработка темы дает возможность установить не только научную основательность либеральной рефлексии, но и степень осмысления ею жизненных интересов страны и умонастроений народа, а следовательно, перспективы либерализма в России. Более того, компаративистский подход позволит раскрыть содержание такого сложного понятия, как патриотизм, выявить различия в его интерпретации в зависимости от «духа времени».
Современным либералам может послужить ориентиром опыт балансирования их предшественников, а точнее, их поиск синтеза между идеями патриотизма и политической свободы, державности и гражданского общества, империи и прав национальностей.
Обращение к теме дает возможность раскрыть либеральное понимание сложного и противоречивого взаимодействия внешнеполитического и внутреннего развития России, выявить содержание проекта создания либеральной империи как результата решения Восточного вопроса. Главное значение разработки темы заключается в том, что проведенное исследование позволяет измерить степень реалистичности внешнеполитических построений либералов, провести корреляцию воззрений и исторического контекста, идейной основы и пропагандистской формы этих воззрений, определить каналы их влияния на внешнеполитическую практику.
Сама история Восточного вопроса получила достаточно полное освещение в отечественной историографии (Киняпина и др., 1978; Киняпина, Писарев, 1985; Россия и Черноморские проливы…, 1999; Задохин, Низовский, 2000). Наряду с российскими к этой теме обращались и зарубежные авторы (Burgaud, 2009; Russian-Ottoman Borderlands…, 2014).
Наиболее полное определение содержания Восточного вопроса дал один из основоположников российского либерализма, философ и историк Б.Н. Чичерин в результате осмысления катастрофических для России итогов Крымской войны (1853—1856). По его мнению, Восточный вопрос «соединял в себе существование Турецкой империи, европейское равновесие, вопросы народности, вопросы либерализма»1. Таким образом, содержание Восточного вопроса можно представить как некую систему, ядром которой являлась Османская империя, а точнее — борьба великих держав за ее «наследство». Для России основной элемент Восточного вопроса заключался в утверждении на Балканах и осуществлении контроля над Проливами. Кроме того, он включал в себя стремление славянских и православных народов, находившихся под гнетом Порты, к суверенитету, а также противостояние великих держав, ведущее к достижению «баланса сил» на Балканах.
Значение разработки темы состоит и в том, что исследование внешнеполитических взглядов либералов дореволюционной России дает возможность выявить и проанализировать их понимание взаимосвязи национальных интересов с ценностями свободы личности и суверенитета народов, в результате разрушив историографические мифы о либералах: либо как о партии, защищающей на международной арене интересы буржуазии, либо как оторванной от национальных корней, антипатриотической силе.
Тема российского либерализма начала ХХ в., а также его изучение получили достаточно глубокую разработку в отечественной историографии (Шелохаев, 1991; 2019; Гайда, 2003; Егоров, 2010; Макаров, 2015). Определенное освещение в научной литературе получили и внешнеполитические взгляды либералов России (Вишневски, 1999; Воронкова, 2010; Кострикова, 2011; 2017; Курылев, 2012; Кустов, 2004; Шелохаев, Соловьев, 2014). Так, В.В. Шелохаев, представив внешнеполитическую доктрину либералов того времени в качестве системы, стремящейся учесть общенациональные интересы, подчеркнул ту роль, которую все либералы отводили решению Восточного вопроса в деле обеспечения прогресса страны (Шелохаев, 2019, с. 215, 236).
Заслуживает внимания не бесспорная точка зрения историка Ф.А. Гайды, полагавшего, что не социально-политические разногласия либералов и крайне левых в 1917 г., а их противостояние по внешнеполитическим вопросам вышло на первый план, в итоге открыв большевикам дорогу к власти (Гайда, 2003, с. 379—380). Важную для нас проблему сочетания имперского проекта с либеральной идеологией в России начала ХХ в. затронул историк Д.В. Аронов (Аронов, 2014, с. 129—130).
О влиянии внешнеполитических установок на восприятие либералами перспектив развития страны писал Э. Вишневски, утверждавший, что «многим из них была свойственна вера в прогресс России по западному образцу» (Вишневски, 1994, с. 186). В своих выводах историк подчеркивает прагматизм либералов и ту поддержку, которую они оказывали империалистической политике правительства на Балканах накануне Первой мировой войны (Вишневски, 1999).
Отдельные аспекты внешнеполитической доктрины российских либералов начала прошлого века получили свое специальное рассмотрение в трудах К.П. Курылева (Курылев, 2018а; 2018b; 2018с) и Д.М. Новикова (Новиков, 1997; 2000). Особый интерес у отечественных и зарубежных исследователей вызывает концепт «либеральной империи» видного теоретика партии кадетов П.Б. Струве (Пайпс, 2001a; 2001b; Пефтиев, 2014).
В исследовании И.Е. Воронковой специальное рассмотрение получила внешнеполитическая программа партии кадетов. Исследователь, преодолевая устоявшиеся стереотипы, представила лидеров либерального движения принципиальными политиками, последовательно отстаивающими национальные интересы на международной арене (Воронкова, 2010, с. 7).
Для нас представляют интерес работы, в которых рассматриваются внешнеполитические концепции либералов предшествующего периода, в том числе и эволюция их взглядов на Восточный вопрос (Arslanov et al., 2018; Arslanov & Linkova, 2021). В исследовании Н.В. Макарова было проанализировано отражение внешнеполитических взглядов либералов в англо-американской историографии. Например, историк обратил внимание на точку зрения Р. Маккина, выявившего наличие у либералов начала ХХ в. имперских устремлений (Макаров, 2015, с. 203—204).
Несмотря на растущий научный интерес к внешнеполитической доктрине российских либералов начала ХХ в., проблема интерпретации ими Восточного вопроса, определявшего во многом и внутриполитическую стратегию либеральных партий, прежде всего кадетов и октябристов, остается до конца не раскрытой, что и требует обращения к данной теме.
При написании статьи использовались различные группы источников. Прежде всего, это архивные и опубликованные документы Конституционно-демократической партии[2]. Особое место занимают публицистические материалы, увидевшие свет как в ведущих либеральных органах печати, так и в отдельных изданиях[3]. Привлекались и источники личного происхождения[4].
Одной из основ для написания статьи служит методология интеллектуальной истории, позволяющая установить взаимодействие эволюции исторического контекста, общественного мнения и внешнеполитических концептов представителей различных течений либерализма России начала ХХ в. Сравнительно-исторический метод, используемый в работе, дает возможность сопоставить взгляды либеральных идеологов, установить общие черты и особенности в их восприятии международных событий и внешней политики правительства. В работе применялись также системный подход и принцип историзма, позволяющие представить взгляды либералов как некую самостоятельную систему, развивающуюся в условиях своего времени.
Цель исследования заключается в комплексной реконструкции и анализе взглядов российских либералов начала ХХ в. на Восточный вопрос и пути его решения. Предполагается рассмотреть либеральное понимание как основных компонентов этой международной проблемы, так и связи этих компонентов с внутренним развитием страны, проследить эволюцию внешнеполитических воззрений либералов, выяснить партийные особенности их развития.
Разработка внешнеполитической доктрины (1907—1911 гг.)
В начале ХХ в. российские либералы, сохраняя приверженность принципиальным идеям своих предшественников, значительно переработали и конкретизировали внешнеполитическую концепцию. Трансформация была вызвана, прежде всего, самим временем «революционных бурь и международных потрясений», выходом на историческую арену народных масс, все более пристально всматривающихся в действия власти и элиты на международной арене. Заметное влияние на внешнюю политику начало оказывать и общественное мнение, настроения которого либералы пытались не только сформировать, но и использовать в своих целях.
Транзит российской государственности от самодержавной к думской монархии и превращение либералов в реальную политическую силу во многом определили их переход от теоретических рассуждений и публицистической активности к практическому участию в международной политике. Свою роль в изменении отношения либералов к внешнеполитической проблематике сыграло и ухудшение международного положения России: ослабление ее позиций, вызванное поражением в войне с Японией в 1904—1905 гг., провал во время Боснийского кризиса 1908 г.5, названный современниками «дипломатической Цусимой». Эти события наряду с сохранявшейся нестабильной внутренней ситуацией, которую можно охарактеризовать как постреволюционный синдром, ставили под угрозу позиции, если не само существование Российской империи. Следует учесть развитие и усложнение самой либеральной мысли, более глубоко проникавшей в суть вещей, обнаруживавшей связи между различными сферами общественного развития и в итоге превратившейся в идеологическую программу динамичной политической силы, ведущей борьбу за власть. В итоге весь комплекс международных, социально-политических и идеологических факторов требовал от либералов выработки четкой внешнеполитической доктрины, стержнем которой становился Восточный вопрос. В ходе осмысления основных задач внешней политики России происходила дифференциация либерального течения, складывались его различные модификации, предлагавшие свое видение реализации этих задач.
Таким образом, реакцией на ухудшение международного положения России и неудачи официальной власти стало стремление либералов разработать и воплотить внешнеполитический проект, который мог бы консолидировать общество вокруг его решения.
Именно таким проектом и стал в начале ХХ в. Восточный вопрос, занявший одно из основных мест как в системе международных отношений, так и во внешней политике России. Либералы в условиях изменившегося исторического контекста начали переосмысливать основные компоненты Восточного вопроса, и прежде всего славянскую тему, значение которой возросло в свете растущей германской угрозы и экспансионистских замыслов Австро-Венгрии на Балканах (Дьяков, 1993, с. 143—148). Определенной реакцией на вызовы «пангерманизма» и стали получившие распространение в отечественной публицистике призывы к объединению усилий всех славянских народов.
Вместе с тем, преодолевая односторонность доминирующего в либеральной среде пореформенной эпохи взгляда на внешнюю политику как подчиненную внутренним задачам, либералы начинают находить глубинные взаимосвязи, например, между славянской темой и решением национального вопроса в самой Российской империи. Либеральные идеологи не только сами осознают, что защита национальных интересов России на международной арене тесно сопряжена с построением правового государства и обеспечением политической свободы внутри страны, но и пытаются убедить в этом власть.
Во взглядах либералов начала ХХ в. происходит более четкое осмысление соотношения национальных интересов и идейных ценностей. Так, если в 1870-х гг. в условиях обострения Восточного вопроса многие либералы выдвигали освобождение славян от турецкого господства в качестве основной цели, а национальные интересы (утверждение России на Балканах) фактически подчиняли защите идейных ценностей, то после Берлинского конгресса, ограничивавшего притязания России на Балканах, на первый план в их построениях выходят геополитические устремления. В начале же ХХ в. взгляд либералов усложняется, теперь в их концепции происходит практическое отождествление внутрии внешнеполитических задач, ценностей и интересов.
Своеобразным примером этой траектории развития либеральной мысли стало суждение публициста «Вестника Европы» Л.З. Слонимского. «Вестник Европы» представлял собой литературно-политический журнал, который в 1870-х гг. во главу угла ставил задачу освобождения славян силами Российской империи. В начале же ХХ в. в журнале подчеркивалось, что именно самодержавная модель российской государственности и соответствующий ей тип отношений к своим и другим народам привел к утрате Россией завоеванных ею в войне с Турцией позиций на Балканах. Объясняя причины вытеснения России из региона, Л.З. Слонимский в разделе «Иностранное обозрение», который он вел в «Вестнике Европы» с 1880 г., писал: «Мы освободили сербов и болгар от турецкого ига... и требовали взамен повиновения и благодарности, но дождались только глухого неудовольствия и протеста, несмотря на традиционные симпатии туземных народностей к России и русским»6.
Таким образом, чтобы изменить отношение славян и добиться решения Восточного вопроса в своих интересах, России, согласно логике автора, необходимо было самой преобразиться. И, прежде всего, ей предстояло реформировать национальные отношения, без чего невозможно было привести славян к единению с Империей.
В рассуждениях либералов Восточный вопрос все более становился звеном, связующим внешнюю и внутреннюю сферы жизни России, ее политическое и экономическое развитие, положение в мире и модернизацию страны.
Проект П.Б. Струве
Наиболее ярко и полно понимание либералами сущности и путей решения Восточного вопроса нашло отражение в статье идеолога правых кадетов П.Б. Струве под программным заголовком «Великая Россия». Основной метафизический смысл существования России мыслитель видел в обеспечении «русского могущества», тесно связанного с внутренним развитием страны и ее «внешней мощью». Однако революционные потрясения начала ХХ в., а также переориентация внешнеполитического курса Империи на Дальний Восток, поражение в войне с Японией встали на пути создания Великой России. Примечательно, что, по мнению П.Б. Струве, к этой войне Россию толкали силы, заинтересованные в «сохранении и упрочении самодержавно-бюрократической системы»7. То есть и здесь, в действиях определенных правительственных кругов, он находил связь между формой государственности и внешнеполитическим курсом страны. Более того, расплатой за подчинение внешней политики «соображениям внутренней» и стало поражение России, свидетельствующее об утрате ею военной мощи. Для исправления исторической ошибки следовало, утверждал П.В. Струве, вернуть «центр тяжести нашей политики в область», которая издавна была доступна «реальному влиянию русской культуры»8. Такой областью являлся бассейн Черного моря, в котором у России коренились «живые культурные традиции». Иными словами, мыслитель призывал вернуться к важному, связанному не только с культурой и историческим прошлым России и славянских народов вопросу Балкан, но и экономическим и политическим настоящим этих народов, — Восточному вопросу. «Для создания Великой России, — утверждал он, — есть только один путь: направить все силы на ту область, которая действительно доступна реальному влиянию русской культуры. Эта область — весь бассейн Черного моря, т.е. все европейские и азиатские страны, „выходящие“ к Черному морю»9.
Одно из преимуществ этого региона мыслитель видел в том, что наряду с культурными он создавал материальные предпосылки — «люди, каменный уголь, железо» — для утверждения господства России. Следует обратить внимание на синтетический взгляд П.В. Струве, охватывающий экономическую, политическую и культурную сферы внешней политики и обнаруживающий ее тесную взаимосвязь с внутренним развитием страны. Свой проект Великой России он надеялся воплотить, лишь добившись признания всем народом и, прежде всего, его образованным классом «идеала государственной мощи и начала дисциплины труда», доказывая при этом, что «созидать государственное могущество» возможно лишь «на основе мощи хозяйственной»10.
В отличие от многих равнодушных к материальной стороне жизни либералов, П.В. Струве подчеркивал значение во внешней политике экономического доминирования, из которого, как он утверждал, «само собой вытечет политическое и культурное преобладание России на всем так называемом Ближнем Востоке». Следует заметить, что в проекте П.В. Струве это «преобладание» должно было осуществиться «совершенно мирным путем»11.
Привлекает внимание и еще один аспект его идей. В отличие от многих либералов прошлого П.В. Струве не связывал утверждение России на Балканах с правами славянских народов, а прямо говорил об интересах России, необходимости возрождения ее «государственной мощи». Однако единение со славянами и обретение этой «мощи», утверждал П.В. Струве, только тогда станет возможным, когда российское государство, раздираемое внутренними противоречиями, начнет проводить реформы, ведущие к ее превращению в «либеральную империю».
Само содержание Восточного вопроса, по мнению П.В. Струве, могло быть раскрыто «только сочетанием правильной внешней политики с разумным разрешением наших внутренних вопросов». Данная формула нуждается в определенной конкретизации, которую мы и находим в статье мыслителя. По его мнению, «разрешение внутренних вопросов» должно было привести к воплощению «национальной идеи», означавшей «примирение между властью и проснувшимся к самосознанию и самодеятельности народом, который становится нацией»12.
Таким образом, если следовать логике мыслителя, можно выстроить следующий силлогизм: сочетание демократии, либерализма и державности, достигаемое в результате внутренних преобразований, приведет к обретению Россией «государственной мощи». Эта мощь, укрепляя позиции России в Восточном вопросе, создает условия для решения этого вопроса, которое, в свою очередь, открывает возможности для внутренних преобразований. Так получался логический круг, реалистичность которого могла подтвердить только историческая практика.
В целом либералы начала ХХ в., преодолевая наследие своих предшественников, воспринимавших внешнюю политику как сферу, которая подчинена задачам внутренних преобразований и модернизации страны, начинают все более осознавать, что защита национальных интересов России на международной арене тесно сопряжена с построением гражданского общества и обеспечением политической свободы.
Проект П.Н. Милюкова
Общие теоретические представления о Восточном вопросе нашли практическое преломление в выступлениях лидеров кадетской партии, не раз обращавшихся к славянской теме, особенно в условиях Боснийского кризиса 1908 г. Весьма красноречиво и четко отношение либералов к славянам сформулировал П.Н. Милюков на одном из совещаний кадетской фракции в октябре 1908 г. «Славянским вопросом, — убеждал он, — необходимо интересоваться не в силу сродства и сентиментальных славянофильских мотивов, а потому что он представляет часть международного русского вопроса. Им нужно овладеть, доказав правым, что оппозиция знает его лучше их, и лишить их монополии на патриотизм… Славянство — даровая сила против германизации Балкан, и эту силу надо использовать»13. Так, может быть несколько прямолинейно и даже цинично, в узком кругу однопартийцев П.Н. Милюков выдвигал на первый план в решении Восточного вопроса не чувства и ценности, а реальные интересы России на Балканах. При этом он призывал использовать славянскую солидарность в целях противостояния германской экспансии в регионе.
Важным представляется еще одно четко сформулированное П.Н. Милюковым условие поддержки Россией славян — отказ от применения силы. «Мы должны стоять на том, — заявил он на заседании ЦК кадетов в марте 1909 г., — что к войне мы не готовы, и все делать для того, чтобы отклонить возможность войны»14.
Умеренная позиция лидера кадетов, его сдержанное отношение к славянам не нашли поддержки у большинства членов Центрального комитета кадетской партии. Так, по словам Н.А. Гредескула, «война на Балканах создает благоприятное положение для России, а не для Австрии: не Россия будет зачинщицей войны, если таковой уже нельзя будет избежать. Война в высшей степени нежелательна, но и для самого предотвращения войны нельзя от нее зарекаться, — и с этой точки зрения позиция П.Н.М. (Милюкова. — Прим. авт.) опасна и нежелательна»15. Ему вторил Ф.Ф. Кокошкин, заявивший, что «Проливы — жизненный интерес для России. Распределение сил на Балканском полуострове также далеко не безразлично. Наша симпатия должна быть на стороне славян»16.
Таким образом, несмотря на разногласия, большинство кадетов в своих выступлениях подчеркивали тесную связь российских и славянских интересов, допускали возможность использования военной силы при их защите. Да и миролюбие лидера партии было ситуативным, вызывавшимся не врожденным пацифизмом или игнорированием славянского дела, а его оценкой уровня готовности России к войне. Более того, он не исключал возможности вступления России в войну, но лишь в случае необходимости защиты ее национальных интересов, которые он не отождествлял с интересами славян. К тому же, исходя из получившей в начале ХХ в. распространение идеи неизбежности войны, П.Н. Милюков поддерживал курс на перевооружение русской армии.
Здесь следует остановиться на одном из ключевых противоречий внешнеполитической доктрины либералов. Руководствуясь «духом времени», они, с одной стороны, испытывали влияние теоретической установки «фатальной предопределенности войн в истории общества» (Шелохаев, 2019, с. 216). С другой стороны, прагматизм, понимание того, что крайняя нестабильность внутреннего положения России может превратить войну в спусковой крючок революции, толкали их к миролюбию. Эти колебания закончатся лишь с началом Первой мировой войны, когда на волне патриотического подъема, а также возможности практического решения Восточного вопроса в интересах империи либералы станут решительными сторонниками и проводниками идеи «войны до победного конца».
Актуализация Восточного вопроса (1912—1914 гг.)
Осенью 1912 г., в условиях начавшейся Первой Балканской войны, П.Н. Милюков еще сохранял свою миролюбивую позицию. При этом он исходил из того, что Восточный вопрос России следует решать вместе с «европейской машиной тройственного согласия», и одна она «из-за известных славянских задач» воевать не должна. Вместе с тем лидер кадетов уточнил, что если «зайдет речь о собственных интересах России, то дело может быть иначе»17.
Защищаясь от обвинений в измене делу славянства, П.Н. Милюков, обращаясь уже не только к руководству партии, но и с помощью рупора кадетов газеты «Речь» ко всему обществу, писал: «Не надо кричать, толкаться и махать руками. Идите, господа, напряженно сдержанной походкой, зорко смотрите вперед, оставьте чувствительные слова и говорите о “реальных” интересах России»18. Некоторые исследователи в этой витиеватой фразе, да и в ряде других выступлений лидера кадетов обнаружили стремление замаскировать подлинные цели партии: внушить массам мысль об отсутствии у кадетов каких-либо империалистических интенций. Так, В.В. Шелохаев на основании анализа партийных документов пришел к выводу, согласно которому П.Н. Милюков «пытался внушить своим коллегам по ЦК, что партия должна вести себя в балканском вопросе так тонко и дипломатично, чтобы у масс сохранилась иллюзия о ее непричастности к захватнической империалистической внешней политике» (Шелохаев, 2019, с. 228). Однако «маскирующийся империализм» лидера партии вызывал недовольство части партийного руководства, требующей занять более открытую и решительную позицию в Балканском кризисе.
На основании привлеченных документов трудно судить о том, насколько перед Первой мировой войной кадеты стремились замаскировать свои внешнеполитические планы, но со всей очевидностью их лидер призывал отказаться от эмоционального восприятия идеи славянской солидарности, защиты отвлеченных ценностей и обосновывал необходимость руководствоваться во внешней политике национальными интересами.
Балканский кризис, ставший фактически прелюдией мировых потрясений, заставил либералов задуматься о готовности страны к большой войне. П.Б. Струве использовал международные события не только как сигнал для мобилизации и консолидации общества, но и стимул для его реформирования. «Никогда еще Россия, — писал он, — так не нуждалась в твердой либеральной внутренней политике… собирания всех сил не только русского народа, но и всех народностей империи, как именно теперь»19.
Приведенная цитата, хотя и косвенно, заставляет обратиться к взглядам либералов на участие народа во внешней политике государства. Следует сразу же заметить, что в либеральной концепции сочеталось элитарное недоверие к способности масс понять сложные материи международных проблем с демократической убежденностью в необходимости привлечения народного мнения к их решению.
Представляется, что демократические веяния эпохи не были в полной мере учтены лидерами либералов, что и стало одним из факторов их отчуждения от масс в эпоху революционных потрясений 1917 г.
В целом либералы не восприняли в должной мере программную установку, сформулированную П.Б. Струве: «Государственная мощь невозможна без осуществления национальной идеи. Национальная идея современной России есть примирение между властью и проснувшимся к самосознанию и самодеятельности народом, который становится нацией»20.
В кадетской партии отсутствовало единство и в отношении Балканского союза. При этом до определенного момента либералы активно использовали идеи неославизма, противопоставляя их не столько старому славянофильству, сколько панславизму, проповедовавшему славянское объединение под эгидой России21. Вместе с тем они надеялись с помощью неославизма объединить внутри страны все патриотические элементы либерального и умеренно националистического спектра, а во внешней политике — все славянские народы. Создание же Балканской конфедерации представлялось либералам не только практическим воплощением единства славян, но и инструментом решения Восточного вопроса в интересах России.
Следует заметить, что в советской историографии отношение либералов к славянской теме трактовалось в духе классового подхода, согласно которому руководители либеральных партий лишь «прикрывали выспренними речами о славянской взаимности узкоклассовые интересы той или иной группы российской буржуазии» (Дьяков, 1993, с. 176).
Однако объективный анализ отношения, к примеру, лидера кадетов к Восточному вопросу вообще и его славянской составляющей в частности дает возможность прийти к следующим выводам. П.Н. Милюков предлагал поддерживать славян, поскольку это соответствовало интересам России и ее соглашениям с европейскими державами. По его мнению, «фактическая группировка славян идет параллельно союзам России, против германизма. Этим положением вещей и должна определяться славянская политика»22.
Таким образом, П.Н. Милюков требовал положить в основу отношения России к славянству принцип трезвого политического расчета и взаимной выгоды и отбросить «пошлые сантименты» вроде исконной любви к «братьям-славянам» и т. д. Точка зрения лидера кадетов в итоге получила признание в партии, где считали, что славянство в целом являлось в то время естественным союзником России. «Не пресловутая „историческая миссия России“ на Ближнем Востоке, а ее международные задачи на данном историческом этапе, — заявлял Милюков, — ставят славянство в центр нашего внимания»23.
Постепенно тема славянства в выступлениях либералов из основной начинает превращаться в маргинальную, уступая место другим аспектам Восточного вопроса. Скорее всего, этот транзит можно объяснить разочарованием части либеральной элиты России в славянской идее, а главное — в результатах Балканских войн 1912—1913 гг., которые окончательно раскололи южнославянский мир и похоронили планы создания антигерманского блока балканских государств.
Проблема Проливов в полемике либеральных партий
Накануне войны в выступлениях либералов все более заметное место начинает занимать находившаяся ранее несколько в тени других аспектов ближневосточной политики России проблема Черноморских проливов. Важно учесть, что заинтересованность либералов этим вопросом была вызвана, с одной стороны, возрастанием экономического значения Проливов и требованиями отечественных предпринимательских кругов обеспечить бесперебойное прохождение судов, а с другой — обострением международных отношений и нарастанием внешней угрозы южным рубежам страны. Проливы не только фокусировали экономические и геополитические аспекты развития России, но становились объектом споров различных политических сил. При этом даже среди либералов не было единодушия в определении положения и принадлежности Проливов в будущем.
Умеренные представители партии кадетов настаивали на сохранении существующего статуса Проливов, подтвержденного на Берлинском конгрессе и фактически закрывавшего русский военный флот в Черном море. Националисты и правые, как и часть либералов, настаивали на необходимости обретения Россией «ключей от Черного моря», то есть о захвате территорий, через которые пролегали Проливы, включая Константинополь. Так, по мнению кадета Б.Э. Нольде, «разрешить задачи, которые для России связаны… с Проливами, можно только разрешая восточный вопрос»24. Само же его «разрешение» Б.Э. Нольде считал возможным лишь в результате захвата Россией Константинополя.
Умеренные же либералы занимали иную, более взвешенную позицию. Они с воодушевлением восприняли революционные события 1908 г. в Османской империи, породившие в их рядах надежды на начало мирного разрешения Восточного вопроса, возможность которого они связывали с объединением всех балканских государств, включая Турцию25. Россия в этих условиях, по мнению П.Н. Милюкова, должна «стоять на сохранении целости турецких областей до тех пор, пока не наступит международная ситуация, при которой они смогут стать автономными…»26. Объяснял же свою позицию лидер кадетов тем, что сохранение Проливов в руках ослабленной Турции для России было выгоднее, чем их переход в случае полного развала Порты в руки какой-либо великой державы. Вместе с тем политик убеждал своих оппонентов в том, что это временная мера, доказывая, что в перспективе, по мере усиления российской мощи, Проливы и часть сопредельных турецких территорий должны были отойти к России27.
Однако уже весной 1912 г. после того как Порта в условиях войны с Италией закрыла Проливы для торговых судов, позиция лидера кадетов меняется. А в годы Первой мировой войны он открыто заявлял о необходимости овладения Проливами, а не их нейтрализации. Только тогда, по его мнению, будет «закончено строение великого государственного организма», в ином случае «организм этот будет постоянно сотрясаться судорогами нарушенного обмена и не выйдет из чужой зависимости»28.
Наиболее полно имперские идеи П.Н. Милюкова нашли свое отражение в статье «Территориальные приобретения России», в которой он предполагал приобретение в «полное обладание Россией проливов Босфор и Дарданеллы с достаточной частью прилегающих берегов, чтобы обеспечить их защиту, а также Константинополя»29.
Таким образом, взгляды П.Н. Милюкова на пути решения проблемы Проливов хотя и менялись в зависимости от исторического контекста, но постоянным оставалось понимание их значения для развития страны.
Более агрессивную позицию по отношению к проблеме Проливов занял представлявший правое крыло либералов Союз 17 октября.
Согласно сложившейся еще в советское время историографической схеме, решительность октябристов объяснялась, прежде всего, буржуазно-помещичьим составом партии, последовательно отстаивавшей классовые интересы предпринимателей. Именно этот слой общества более всего нуждался в обеспечении бесперебойных поставок хлеба и другой продукции через Проливы (Кострикова, 2007, с. 3). Вот почему октябристы выступили против нейтрализации Проливов, утверждая, что «нам нет никакого смысла созывать весь мир на Босфор и Дарданеллы и отдавать оба эти пролива под международный контроль по образцу Суэцкого канала. Напротив, мы должны твердо и непоколебимо стоять на том принципе, что вопрос о проливах касается только тех держав, владения которых лежат в Черном море и прежде всего, конечно, России и Турции»30.
Октябристы настаивали на необходимости проведения на Балканах решительной политики, которая, по их мнению, более всего отвечала бы интересам России. «Мы желаем, чтобы Австрия и ее союзники, — заявляли они в «Голосе Москвы», — окончательно усвоили, что территориального приращения на Балканах мы не допустим… Нам надоело сидеть в доме, ключи от которого в чужом кармане. Мы требуем, чтобы они были у нас»31. Таким образом, основным требованием октябристов становится захват Проливов, осуществляемый за счет дипломатической сделки. Однако итоги Балканских войн выявили иллюзорность этих надежд и привели к тому, что октябристы стали требовать от правительства принятия решительных мер, способных явочным порядком «открыть проливы»32.
Наиболее решительную позицию по отношению к проблеме Проливов заняла либеральная партия прогрессистов. В партийном рупоре, газете «Утро России», утверждалось, что к России должны перейти не только сами проливы, но и прилегающие земли. «Надо конфиденциальным путем, но, безусловно, авторитетным образом заявить Европе, что при конечной ликвидации оттоманской территории вся балканская и азиатская береговая полоса Черного моря должна отойти к России»33.
Прогрессисты, занимая наиболее воинственную позицию в вопросе Проливов, критиковали соглашательскую политику правительства, которое, учитывая неготовность России к большой войне, было вынуждено идти на уступки Германии и Австро-Венгрии (Курылев, 2005, с. 191). Как отмечалось в «Утре России», «наша дипломатия должна использовать нынешний момент в том смысле, чтобы результаты обеих Балканских войн… не отдалили нас от возможности рано или поздно осуществить завладение Проливами»34.
Прогрессисты обращались и к славянской теме. Так, по словам Е.Н. Трубецкого, «единение России с другими славянскими народами не должно быть чьей-то монополией: с нашей стороны оно должно быть делом не оппозиционных или реакционных кругов, а делом всей нации»35.
Ему вторил и крупный российский промышленник, один из лидеров партии А.И. Коновалов, который считал, что «во всех русских людях горит огонь патриотизма и сочувствия к славянам… Правительство, опираясь на эти течения, могло бы стать на гораздо лучшую позицию в этом серьезном и трудном балканском вопросе»36.
Глава же прогрессисткой фракции в IV думе И.Н. Ефремов подчеркивал, что «наш народ, безусловно, миролюбив, мы ничего не можем и не хотим взять для себя ценою крови наших братьев-славян. Поэтому мы можем категорически сказать, что войны мы не желаем, но мы не можем потерпеть оскорблений национального чувства»37.
Подобная решительная позиция прогрессистской партии, апелляция к национальным чувствам объясняется тем, что, с одной стороны, эта партия была наиболее последовательной выразительницей чаяний московской группировки российской буржуазии, а с другой — воспринимала себя национально-патриотической силой. Именно поэтому прогрессисты даже в большей степени, чем октябристы, отдавали предпочтение силовым методам решения Восточного вопроса.
Заключение
Анализ взглядов русских либералов начала ХХ в. на содержание и пути решения Восточного вопроса позволяет прийти к следующим выводам.
Прежде всего, следует отметить внутреннюю динамику развития их воззрений, заключавшуюся в переходе от созерцательности, присущей их предшественникам, к выработке внешнеполитической программы, ставшей руководством к действию внутри страны и на международной арене. На смену декларативным заявлениям о национальных интересах приходит полемика о содержании этих интересов, реальный учет и определение адекватных возможностям России путей их осуществления. В рассмотрении Восточного вопроса вместо рассуждений об исторической миссии России на Балканах и заботе о нуждах славян утверждается прагматизм, разрабатываются проекты установления союза с балканскими государствами как опоры России в регионе.
Либеральная мысль начала ХХ в. отличалась дифференцированностью, связанной с появлением политически оформленных течений либерализма, конкретикой, а также динамизмом развития, порожденным бурными изменениями международной обстановки, нарастанием внутренних противоречий и стремлением российских интеллектуалов найти адекватные ответы на вызовы времени.
Для большинства «старых» либералов пореформенной эпохи Восточный вопрос оставался подчиненным задачам внутреннего развития страны, нуждавшейся в мире и стабильности для продолжения преобразований. Они, рассуждая о геополитических интересах России и необходимости держать в своем кармане «ключи от Черного моря», все же выступали против войны, надеясь получить контроль над Проливами с помощью дипломатии.
Для «новых» либералов начала ХХ в. Восточный вопрос сфокусировал основные линии напряженности российского общества — национальную, социальную, экономическую, международную. Они не противопоставляли, как ранее, внутреннее развитие страны ее международным задачам, а обнаружили их тесную взаимосвязь. Теперь они доказывали, например, что решение национального вопроса в России привлечет симпатии славян к стране, сможет сплотить их вокруг либеральной империи, что в свою очередь усилит могущество России, укрепит ее позиции в Причерноморье и станет одним из факторов создания Великой России. Вместе с тем, укрепившись, либеральная империя могла бы взять под контроль Проливы, необходимые ей для обеспечения международных торговых связей и экономического развития. Таким образом, происходит не столько прагматизация и рационализация восприятия Восточного вопроса, сколько усложнение его видения. Восточный вопрос все более понимается как квинтэссенция русских устремлений, как центр, аккумулирующий внутренние и внешние стороны жизни России, национальные интересы и либеральные ценности.
Рассмотрение взглядов либералов начала ХХ в. на Восточный вопрос дало возможность увидеть не только особенности в его восприятии представителями легальной оппозиции, но и корни усиливавшегося отчуждения элиты страны от народа. Именно это отчуждение, усугубившееся в годы военного лихолетья и проявившееся наряду с прочим в различном восприятии властью, либералами и народом значения Восточного вопроса, привело весной 1917 г. к отставке министра иностранных дел, лидера партии кадетов П.Н. Милюкова, получившего в обществе за свои планы захвата Черноморских проливов ироничное прозвище «Милюков-Дарданелльский». Его отставка стала началом падения либерализма в России, оказавшегося в итоге на обочине истории.
1 Чичерин Б. Н. Восточный вопрос с русской точки зрения // Записки князя С. П. Трубецкого. Приложение 1. Восточный вопрос с русской точки зрения. Спб. : Типография «Сириус», 1907. С. 133.
2 См.: Протоколы Центрального комитета и заграничных групп конституционно-демократической партии. 1905 — середина 1930-х гг. : в 6 т. Москва : Прогресс-Академия, Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1994—1999; Съезды и конференции Конституционно-демократической партии : в 3 т. Москва : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2000.
3 См.: Котляревский С. Россия и Константинополь // Русская мысль. 1915. Кн. 4. С. 1—5; Милюков П. Н. Балканский кризис и политика А.П. Извольского. Спб. : Типография товарищества «Общественная польза», 1910; Струве П. Б. Patriotica. Политика, культура, религия, социализм : сборник статей за пять лет (1905—1910 гг.). Спб. : Издательство Д. Е. Жуковского, 1911; Перцов П. П. Панруссизм или панславизм? Москва : Товарищество типографии А. И. Мамонтова, 1913.
4 Милюков П. Н. Воспоминания : в 2 т. Москва : Современник, 1990.
5 Международный конфликт, вызванный аннексией Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией в октябре 1908 г.
6 Иностранное обозрение // Вестник Европы. 1908. Т. 2, кн. 3. С. 427.
7 Струве П. Б. Великая Россия. Из размышлений о проблеме русского могущества // Русская мысль. 1908. Кн. 1. С. 144.
8 Там же. С. 145.
9 Там же. С. 146.
10 Там же. С. 148.
11 Там же. С. 146.
12 Там же. С. 155.
13 Съезды и конференции Конституционно-демократической партии : в 3 т. Т. 2: 1908—1914 гг. Москва : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2000. С. 65.
14 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 523. Оп. 1. Д. 7. Л. 29—29 об.
15 ГАРФ. Ф. 523. Оп. 1. Д. 30. Л. 228.
16 ГАРФ. Ф. 523. Оп. 1. Д. 245. Л. 50.
17 Протоколы Центрального комитета и заграничных групп конституционно-демократической партии. 1905 — середина 1930-х гг. : в 6 т. Т. 2: Протоколы Центрального комитета конституционно-демократи-ческой партии. 1912—1914 гг. Москва : Прогресс-Академия, Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1997. С. 92—99.
18 Речь. 1912. 15 ноября.
19 Русская мысль. 1912. Кн. ХII. С. 160.
20 Струве П. Б. Великая Россия. Из размышлений о проблеме русского могущества // Русская мысль. 1908. Кн. 1. С. 155.
21 См.: Великая Россия : сборник статей по военным и общественным вопросам. Кн. 2 / под ред. В. П. Рябушинского. Москва, 1911. С. 108.
22 Протоколы Центрального комитета и заграничных групп конституционно-демократической партии. 1905 — середина 1930-х гг. : в 6 т. Т. 1: Протоколы Центрального Комитета конституционно-демократи-ческой партии. 1905—1911 гг. Москва : Прогресс-Академия, Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1994. С. 333.
23 ГАРФ. Ф. 523. Оп. 1. Д. 7. Л. 29 об.
24 Нольде Б. Э. Босфор и Дарданеллы // Русская мысль. 1911. Кн. 4. С. 21.
25 См.: Милюков П. Н. Балканский кризис и политика А. П. Извольского. СПб : Типография товарищества «Общественная польза», 1910. С. 23—24, 97.
26 См.: Государственная дума. Третий созыв. Сессия пятая. Стенографические отчеты. Ч. 3. Спб., 1912. Стлб. 2231.
27 Ежегодник газеты «Речь» на 1912 г. СПб. : Издательство редакции газеты «Речь», 1912. С. 14.
28 Милюков П. Н. Тактика фракции Народной свободы во время войны. Петроград : Типография товарищества Екатерингофское печатное дело, 1916. С. 8.
29 См.: Что ждет Россия от войны : сборник статей. Петроград : Издательство «Прометей» Н. Н. Михайлова, 1915. С. 5—62.
30 Голос Москвы. 1911. 29 октября.
31 Голос Москвы. 1912. 24 октября.
32 Голос Москвы. 1913. 21 июля.
33 Утро России 1912. 27 июля.
34 Утро России. 1913. 21 июля.
35 Московский еженедельник. 1908. № 20. С. 1—2.
36 Утро России. 1913. 24 марта.
37 Государственная дума. Четвертый созыв. Сессия первая. Стенографические отчеты. Ч. 1. Спб., 1913. Стлб. 370.
Об авторах
Рафаэль Амирович Арсланов
Российский университет дружбы народов
Email: arslanov-ra@rudn.ru
ORCID iD: 0000-0003-3488-7917
доктор исторических наук, профессор кафедры истории России
Москва, Российская ФедерацияКонстантин Петрович Курылев
Российский университет дружбы народов
Автор, ответственный за переписку.
Email: kurylev-kp@rudn.ru
ORCID iD: 0000-0003-3075-915X
доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и истории международных отношений
Москва, Российская ФедерацияДарья Владимировна Станис
Российский университет дружбы народов
Email: stanis-dv@rudn.ru
ORCID iD: 0000-0002-9824-0365
кандидат экономических наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления
Москва, Российская ФедерацияСписок литературы
- Аронов Д. В. Имперский концепт в либеральных проектах Основного закона России начала XX в. // Имперская и монархическая составляющая либеральной идеологии : сборник материалов всероссийской научной конференции. 24–26 сентября 2014 г. Материалы шестых «Муромцевских чтений». Орел : Издатель Александр Воробьев, 2014. С. 122—130.
- Вишневски Э. Либеральная оппозиция в России накануне Первой мировой войны. Москва : Издательский центр «Россия молодая», 1994.
- Вишневски Э. Либеральные концепции решения славянского вопроса в России // Вестник Пермского университета. История. 1999. № 4. С. 110—124.
- Воронкова И. Е. Доктрина внешней политики партии конституционных демократов. Москва : АПКиППРО, 2010.
- Гайда Ф. А. Либеральная оппозиция на путях к власти. 1914 — февраль 1917 г. Москва : РОССПЭН, 2003.
- Дьяков В. А. Славянский вопрос в общественной жизни дореволюционной России. Москва : Наука, 1993.
- Егоров А. Н. Отечественная историография российского либерализма начала ХХ в.: автореф. дис. … д-ра ист. наук. Москва : Череповецкий государственный университет, 2010.
- Задохин А. Г., Низовский А. Ю. Пороховой погреб Европы. Москва : Вече, 2000.
- Киняпина H. C., Георгиев В. А., Панченкова M. T., Шеремет В. И. Восточный вопрос во внешней политике России: конец XVIII — начало XX в. Москва : Наука, 1978.
- Киняпина H. C., Писарев Ю. А. Великие державы и Балканы накануне Первой мировой войны. Москва : Наука, 1985.
- Кострикова Е. Г. Внешняя политика в общественном мнении России накануне Первой мировой войны (1908—1914): автореф. дис. … д-ра ист. наук. Москва : Институт российской истории РАН, 2011.
- Кострикова Е. Г. Геополитические интересы России и славянский вопрос: идейная борьба в российском обществе в начале XX века. Москва : Кучково поле, 2017.
- Кострикова Е. Г. Российское общество и внешняя политика накануне Первой мировой войны. 1908—1914 гг. Москва : ИРИ РАН, 2007.
- Курылев К. П. Внешнеполитическая деятельность русских либералов во время Первой мировой войны // Октябрь 2017 года. К 100-летию революции. Нравственные и патриотические ценности : материалы межвузовской научной конференции. Москва : Российский университет дружбы народов, 2018a. С. 35—94.
- Курылев К. П. Концептуальные основы внешней политики русских либералов начала XX века. Видное : Финист-А, 2012.
- Курылев К. П. Либеральная концепция внешнеполитических приоритетов России начала ХХ в. // Журнал политических исследований. 2018b. Т. 2, № 1. С. 84—117.
- Курылев К. П. Международная деятельность московских предпринимателей-либералов в начале ХХ в. (на примере А. И. Коновалова) // Забелинские чтения (Кунцовские) 2004. Любимый город? Проектирование нового качества жизни (Москва, 2—22 марта 2004 г.). Москва : МИОО, 2005. С. 190—194.
- Курылев К. П. Русские либералы о приоритетных направлениях внешней политики России в конце XIX в. // Журнал политических исследований. 2018c. Т. 2, № 2. С. 16—29.
- Кустов В. А. Конституционно-демократическая партия (Партия Народной Свободы): разработка и реализация внешнеполитической доктрины (1905—1920 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Саратов : Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского, 2004.
- Макаров Н. В. Русский либерализм конца ХIХ — начала ХХ века в зеркале англо-американской историографии. Москва : Памятники исторической мысли, 2015.
- Новиков Д. М. Дальневосточный регион во внешнеполитической концепции российских либералов 1906—1914 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Москва : Российский государственный гуманитарный университет, 1997.
- Новиков Д. М. П. Н. Милюков о внешней политике России (1906—1914 гг.) // П. Н. Милюков: историк, политик, дипломат : материалы международной научной конференции. Москва, 26—27 мая 1999 г. Москва : РОССПЭН, 2000. С. 318—333.
- Пайпс Р. Струве: левый либерал. 1870—1905. Т. 1. Москва : Московская школа политических исследований, 2001a.
- Пайпс Р. Струве: правый либерал. 1905—1944. Т. 2. Москва : Московская школа политических исследований, 2001b.
- Пефтиев В. И. Струве как политический мыслитель: публикации начала века и в эмиграции // Ярославский педагогический вестник. 2014. Т. 1, № 4. С.47—52.
- Россия и Черноморские проливы (XVIII—XX столетия) / отв. ред. Л. М. Нежинский, А. В. Игнатьев. Москва : Международные отношения, 1999.
- Шелохаев В. В. Идеология и политическая организация российской либеральной буржуазии. 1907—1914 гг. Москва : Наука, 1991.
- Шелохаев В. В. Либерализм в России в начале ХХ века. Москва : Политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2019.
- Шелохаев В. В., Соловьев К. А. Российские либералы о Первой мировой войне // Новейшая история России. 2014. № 3. С. 184—196.
- Arslanov R. A., Dzhangiryan V. G., Kurylev K. P., Petrovich-Belkin O. K. West European Countries and Their Foreign Policy in the Views of the Russian Liberals of Mid-to-Late Nineteenth Century // The International History Review. 2018. Vol. 40, no. 4. P. 916—938. https://doi.org/10.1080/07075332.2017.1350873
- Arslanov R. A., Linkova E. V. Evolution of the Perception of the Eastern Question by Russian Liberals in the Second Half of the 19th Century // The International History Review. 2021. Vol. 43, no. 6. P. 1250—1272. https://doi.org/10.1080/07075332.2020.1864656
- Burgaud S. Question d’Orient ou Équilibre Mitteleuropéen: Quel Primat pour la Politique Extérieure Russe (1856—1866)? // Relations internationales. 2009. Vol. 138, no. 2. Р. 7—22. https://doi.org/10.3917/ri.138.0007
- Russian-Ottoman Borderlands: The Eastern Question Reconsidered / ed. by L. J. Frary, M. Kozelsky. Madison : University of Wisconsin Press, 2014.