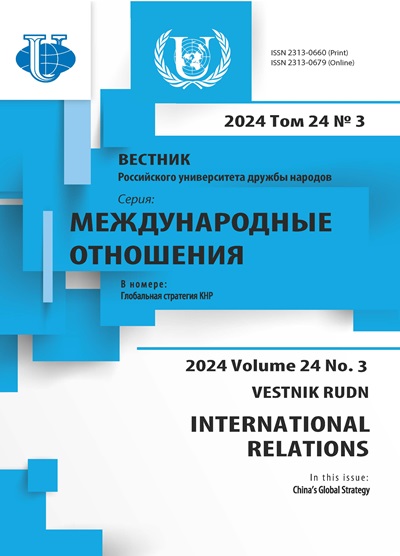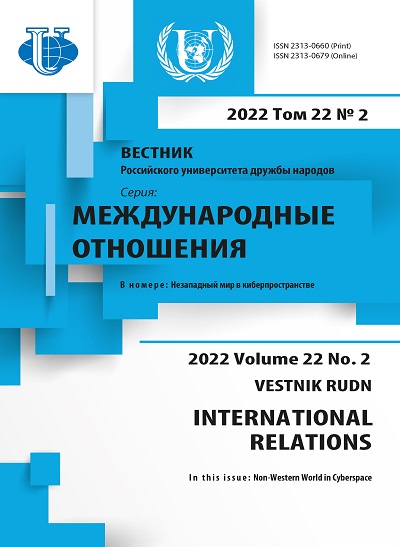Ценностный суверенитет в эпоху глобальных конвергентных медиа
- Авторы: Дегтерев Д.А.1,2,3
-
Учреждения:
- Российский университет дружбы народов
- МГИМО МИД России
- СПбГУ, Санкт-Петербург
- Выпуск: Том 22, № 2 (2022): Незападный мир в киберпространстве
- Страницы: 352-371
- Раздел: ПРИКЛАДНОЙ АНАЛИЗ
- URL: https://journals.rudn.ru/international-relations/article/view/31412
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-0660-2022-22-2-352-371
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Суверенитет в цифровом пространстве - это относительно новый, сравнительно малоизученный феномен, который рассматривается в данной статье. Он носит комплексный характер и зависит как от используемой технологической базы (прежде всего, сетевого оборудования, в том числе 5G и др.), программных продуктов и платформ, так и от продвигаемого контента. Перед странами встает непростая задача регулирования деятельности глобальных медиа-холдингов для сохранения ценностного суверенитета. Автор приводит политэкономический анализ ценностного суверенитета, показывая важность государства как регулятора, позволяющего устранять негативные информационные экстерналии. Особое внимание уделяется анализу международного медиапейзажа и формированию многополярности в сетевом пространстве, в том числе усиливающемуся феномену технологической конвергенции в медиаиндустрии, а также позициям отдельных стран и регионов в глобальной медиаиндустрии. Рассматриваются корпоративные структуры крупнейших медиахолдингов мира, и выявляется усиливающаяся степень диверсификации их активов. Исследуются поколенческая дифференциация механизмов социализации в постпандемийную эпоху, в том числе доля времени, уделяемого социальным платформам, традиционным СМИ (на примере телевидения), а также основные способы доступа в Интернет и проникновения новых технологий. Показаны наиболее перспективные для социализации и быстрорастущие сегменты, в частности интернет-телевидение, технологии создания виртуальной реальности, видеоигры и киберспорт. В финальной части статьи рассматриваются основные проблемы и вызовы регулированию национального медиапространства с целью обеспечения ценностного суверенитета в эпоху глобальных конвергентных медиа.
Полный текст
C началом COVID-19 и введением карантинных ограничений существенно возросло и без того значительное время, проводимое человечеством у экранов (чаще всего это экраны смартфонов). Современную социально-экономическую модель можно характеризовать как «экономику внимания» (Ray et al., 2020, p. 6) или «когнитивный капитализм» (Нечаев, Белоконев, 2020, с. 115—118), так как бóльшую часть рабочего времени люди находятся перед экранами своих компьютеров и прочих электронных устройств, сосредоточенных преимущественно в мегаполисах.
По состоянию на конец 2020 г., основная часть времени медиапользователей в мире (не менее 7 часов в день) тратится на цифровые устройства (на ТВ — только 3 часа) (рис. 1). Из указанных 7 часов почти 4,5 часа приходятся не на настольный компьютер, а на мобильные приложения.
Таким образом, влияние социальных медиа на потребителей становится практически безграничным. Современный инфорынок — это не только и даже не столько «про бизнес», а скорее про «четвертую власть», ведь он создает наиболее эффективные инструменты социализации современного общества. В свою очередь, распространение социальных норм и ценностей — это важнейший элемент формирования общества и трансляции политических установок, а также структурирования потребительского рынка. Наличие глобальных медиаструктур обусловливает необходимость регулирования информационного пространства на национальной территории, однако из-за специфики объекта регулирования это под силу лишь наиболее мощным государствам из числа великих держав.
Рис. 1. Время, затрачиваемое на основные медиа
Источник: (PWC, 2020, p. 13).
Постановка проблемы[1]
В цифровом пространстве суверенитет в его традиционном понимании (Агамбен, 2011; Шмитт, 2005; Bartelson, 1995; Keohane, 2002; Krasner, 1999; Strange, 1996) преломляется через призму «сетевой власти», которая формируется на нескольких онтологических уровнях (рис. 2) (Зиновьева, 2022, с. 9): 1—2 — базовом (технологическом/инфра-структурном, hardware); 3—4 — среднем (программном или сервисном, software) и, наконец, 5—7 — содержательном или идеологическом (Yeli, 2017).
На базовом уровне суверенитет государства ограничивается технологической зависимостью от используемого сетевого оборудования — преимущественно европейского (Nokia, Ericsson) либо китайского (Huawei, ZTE)[2], а также маршрутизаторов (американский Cisco или китайский Huawei).
В рамках «технологической биполярности» (США — КНР) формируются конкурирующие международные режимы управления Интернетом (Дегтерев, Рамич, Пискунов, 2021a; Зиновьева, 2015). При этом ключевую роль, особенно в американской модели, играют мощные цифровые платформы, проводящие информационную политику США в данной сфере (Данилин, 2020; Culpepper & Thelen, 2020).
Значимость сервисов по обработке данных превышает важность программного обеспечения и технической инфраструктуры («нижние этажи», рис. 2) (Зиновьева, 2019, с. 61), что обусловливает развитие понятия «суверенитет данных» (Нечаев, Белоконев, 2020, с. 122). «Большая киберпятерка» GAFAM (Google, Amazon, Facebook3, Apple, а также Microsoft) использует мощные алгоритмы продвижения идеологически «правильного» контента, а также сокрытия, удаления и блокирования «неправильных» сообщений. Фактически речь идет о формировании «глобальной архитектуры по изменению поведения» (Noor, 2020, p. 40) и «цифровом тоталитаризме» (Нечаев, Белоконев, 2020, с. 120).
Рис. 2. Пирамида угроз информационной безопасности
Источник: Роскомнадзор. URL: https://rkn.gov.ru/docs/ugrozy.-piramida.-new-04.02.2021.jpg (дата обращения: 17.02.2022).
В рамках стратегий создания вертикально-интегрированных монополий глобальные ИТ-компании стремятся концентрироваться на стратегически более важных «верхних этажах», связанных с созданием и управлением контентом, а не производством «железа». Так, американцы фактически оставили за европейскими производителями нишу сетевого оборудования 5G. Еще одно доказательство — неудачная история покупки Google производителя «железа» Motorola: купили в 2012 г. за 12,5 млрд долл. США, через несколько лет продали за 2,9 млрд долл. США4. Amazon из глобальной платформы по электронной коммерции стала ведущим провайдером «облачных хранилищ» данных и публично-облачных вычислений5. Соответственно, в глобальном бизнесе становится все выгоднее концентрироваться на хранении, обработке данных и их использовании.
Что касается содержательного уровня проблемы информационного суверенитета, то локальные правила регулирования активности глобальных медиахолдингов для сохранения национальных ценностей ряд экспертов объединяют в коммуникационные режимы (Гасумянов, Комлева, 2020). В последнее время появился целый ряд работ, посвященных непосредственно цифровому суверенитету (Володенков и др., 2021; Зиновьева, 2022; Cuihong Cai, 2020; Lewis, 2020; Pohle & Thiel, 2020; Кутюр, Тоупин, 2020). Достаточно оригинальный подход в этом контексте предлагает С.Н. Федорченко, переносящий основные концепции интеллектуального наследия В.Л. Цымбургского в цифровое пространство (Федорченко, 2021).
Примечательно, что в России первоначальное широкое понятие «информационной безопасности» (в мире чаще используется термин «кибербезопасность»), в которое ранее вкладывалась как защита сетевой инфраструктуры и персональных данных, так и ценностная составляющая, в настоящее время уже разделено на две части: собственно «информационная безопасность» в узком смысле (пп. 48—57 Стратегии национальной безопасности) и «защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти» (пп. 84—93 Стратегии)6. Во втором случае речь идет как раз о «ценностном суверенитете» в трактовке, близкой, например, к пониманию российского философа и общественного деятеля А.В. Щипкова7. Как представляется, второе (гуманитарное) направление зачастую является даже более сложным, чем обеспечение собственно информационной безопасности (технического направления), в том числе в рамках введения четких требований по локализации контента основных социальных сетей на территории РФ в контексте защиты персональных данных россиян.
В условиях традиционно крепкой связи РФ с европейской и шире — западной культурой (в отличие, например, от КНР) встает вопрос о выделении негативных элементов современной ценностной повестки «коллективного Запада», идущих вразрез с цивилизационной идентичностью РФ. Первые шаги в этом направлении уже сделаны: например, профессор А.В. Лукин (НИУ ВШЭ) провел наглядную деконструкцию основных элементов «новой этики» (Лукин, 2021).
Помимо сложности содержательного выделения негативного контента встает вопрос и об основных каналах его распространения. Например, регулирование контента в ставших уже привычными социальных сетях и мессенджерах — это уже отработанная практика. Однако как регулировать на территории РФ распространение контента, например, из ClubHouse — социальной сети голосовых сообщений, запущенной в 2020 г.? Или в Pinterest, который продвигает достаточно наглядную инфографику, часть которой откровенно враждебно отражает российскую историю и современность? Или как поступать с Netflix? Вместо уже регулируемых Роскомнадзором каналов информации (и социализации) появляются альтернативные. В какой-то степени в ценностной сфере речь идет о классической «дилемме безопасности» («чем лучше щит, тем сильнее меч», и наоборот) (Дегтерев, 2017, с. 185).
В данной статье предпринята попытка сформулировать основные принципы обеспечения ценностного суверенитета в информационном пространстве в контексте цифровой экономики. Автор отдает отчет в многогранности информационного суверенитета как объекта исследования, и ценностного суверенитета в частности — как предмета данной статьи. Авторский анализ многочисленных детерминант суверенитета может представляться несколько эклектичным, что характерно для оценки многофакторных процессов (например, эклектическая парадигма инвестиционной привлекательности Д. Даннинга). Цифровой суверенитет как результирующую воздействия указанных детерминант ряд авторов называют эмерджентным свойством государства, что присуще сложным социальным системам (Володенков и др., 2021).
На первом этапе (раздел «Политэкономия ценностного суверенитета») идет переосмысление самого понятия ценностного суверенитета в рамках обеспечения общественного благосостояния. Далее («Социализация в условиях конвергенции») показаны основные механизмы социализации индивидуума по мере его взросления в условиях формирования конвергентных медиа. Показано доминирование западных медиа в глобальном медиапейзаже (раздел «Структурная сила Запада в коммуникационной сфере»). Исследуется соотношение сил в информационном пространстве и киберстратегии («техно-национализм») великих держав по обеспечению своего цифрового суверенитета (раздел «Многополярность в сетевом пространстве»). В заключительном разделе приводятся выводы по ценностному регулированию в инфопространстве.
Таблица 1. Классификация услуг
Кто или что является непосредственным объектом обслуживания? | ||
Характер действия | Люди | Объекты-собственность |
Осязаемые действия | Услуги, направленные на человека
| Услуги, направленные на физические объекты
|
Неосязаемые действия | Услуги, направленные на сознание человека
| Услуги, основанные на обработке информации
|
Источник: (Лавлок, 2005, с. 79).
Политэкономия ценностного суверенитета
Использование информационно-комму-никационных технологий (ИКТ) связано с оказанием информационных услуг, значительная часть которых относится к «услугам, направленным на сознание человека» (табл. 1, затемненное поле).
Особенностью процесса предоставления данного вида услуг является неосязаемый характер действия, а также необходимость «проникать в сознание человека, формировать его взгляды и влиять на поведение». При этом у клиента возникает своего рода психологическая зависимость от поставщика услуг, для которого появляются возможности для манипуляции, что вызывает необходимость введения определенных этических норм (Лавлок, 2005, с. 81—82).
Зачастую речь идет об использовании Интернета в политических целях, для формирования коллективного самосознания («коллективного подсознательного») пользователей (Зиновьева, 2019, с. 61). Возможность относительно легко повлиять на сознание миллионов людей ведет к секьюритизации данного пространства. Широкое распространение получают информационные войны — ведущие страны мира создают свои кибервойска для направленного воздействия на сознание жителей других стран, особенно молодежи (Ахмадеев, Бреслер, Манойло, 2021). Опыт «арабской весны» и «цветных революций» показывает, что использование глобальных социальных сетей помимо экономической выгоды несет и существенные политические риски (Lewis, 2020, p. 67). Выделяются и другие политические эффекты «цифровой экономики», связанные с перераспределением возможностей влияния между политическими субъектами (Нечаев, Белоконев, 2020, с. 114—115).
Продвигаемые в национальном медиапространстве ценности непосредственно влияют и на социально-экономическое благосостояние. Ценностное воздействие на функцию полезности потребителей данной страны в конечном счете определяет структуру покупательского спроса и импортных поставок (Дегтерев, 2014, с. 234—245). Странам с крупными внутренними рынками (к числу которых относится и РФ) это позволяет создавать или, напротив, делать убыточными национальные производства с ежегодным оборотом в десятки миллиардов долларов США.
Ценностная повестка в конечном счете определяет и расстановку приоритетов для целеполагания при стратегическом планировании. В этом контексте речь идет о когнитивном суверенитете, позволяющем «отделять то, что вам действительно нужно, от того, что вам навязано чужими»8.
С одной стороны, информационные услуги представляют собой пример обычной бизнес-практики по предоставлению коммерческой информации. С другой стороны, данные рыночные транзакции зачастую оказывают существенное воздействие на третьих лиц, что не находит адекватного отражения в ценах на эти услуги. В экономической науке данное явление называется внешними эффектами (экстерналиями) (Фишер, Дорнбуш, Шмалензи, 1995, с. 236). Наиболее известны отрицательные экстерналии, связанные с размещением экологически грязных производств: владельцы заводов получают завышенную прибыль, в то время как общество несет чистый убыток из-за загрязнения окружающей среды и ухудшения здоровья граждан. Соответственно, задача государства состоит в том, чтобы сделать невыгодным размещение таких вредных производств, вменить их владельцам внедрение зеленых технологий.
В информационной сфере ряд экспертов также разрабатывают проблематику экстерналий (Манохин, 2010). В самом деле, если в рамках сугубо коммерческой услуги (например, платной подписки на международный информационный ресурс) идет дискредитация действующего правительства либо крупных национальных производителей, то благосостояние данной страны, большинства ее граждан существенно сокращается. Налицо чистый убыток общества, не опосредованный рынком, или негативная экстерналия.
Соответственно, задача государства как регулятора состоит в том, чтобы «отделить зерна от плевел» — открыть рынки для бизнеса, но закрыть их для политики (Lewis, 2020, p. 71). В этом плане наиболее преуспели китайские регуляторы: с одной стороны, в стране наблюдается взрывной рост популярности стриминговых блогеров, когда за один их онлайн-сеанс реализуются товары на миллиарды долларов. С другой стороны, деятельность таких инфлюэнсеров строго регламентирована и не предполагает распространения негативных для общества норм и ценностей9.
В отличие от экологических экстерналий, которые снижают благосостояние всех жителей планеты, информационные, как правило, сокращают благосостояние одного общества, но одновременно увеличивают прибыль другого. Например, введение моды на «заморские товары» снижает сравнительную полезность отечественных товаров и благосостояние местных производителей, но увеличивает объем продаж и прибыль иностранных компаний. Соответственно, у последних появляется соблазн воздействовать на сознание жителей других стран в неоколониальном ключе.
Каналов для этого достаточно много — практически любая из услуг, направленных на сознание человека (см. табл. 1), неосязаема (и, соответственно, сложно контролируема) и достаточно просто может быть сопряжена с негативными информационными экстерналиями. Помимо ТВ, радио и прочих сугубо информационных услуг негативный образ своей страны и ее бизнеса может косвенно формироваться через систему образования и общественных наук, искусство и кинематограф, музыку, неправительственные (НПО) и религиозные организации.
Явные негативные информационные экстерналии купируются посредством введения соответствующих «правил игры». Например, в РФ cформирован Перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной10; установлено регулирование просветительской деятельности, под которой понимается образовательная деятельность за рамками официальных образовательных программ11.
Однако регулирование собственно ценностной составляющей, имеющей отражение, например, в культуре и искусстве, СМИ и общественных науках, — куда более сложная задача. Какова доля художественного или авторского замысла (в том числе иносказательного), а какова — негативной ценностной составляющей в той или иной статье или произведении искусства? Еще сложнее определить эти доли в полученном гонораре за данное произведение. Если ряд партнерских программ для видеоблогеров (например, от компании Yoola12) сопряжены с очевидными негативными информационными экстерналиями для РФ, то в других случаях монетизация антироссийского контента не носит столь явного характера и настраивается посредством уже упомянутых алгоритмов социальных сетей.
Неслучайно в России так тщательно готовятся «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» — идет доработка законопроекта по итогам общественной экспертизы, проведенной в начале 2022 г.13 Многие аналогичные правила давно введены в КНР, а также Евросоюзе. Так, с 2015 г. под эгидой Европейской службы внешних связей («европейского МИД») действует проект EUvsDisinfo «по борьбе с дезинформационными кампаниями РФ», затрагивающими ЕС, государства-члены и соседние страны14. Ведется мониторинг отдельных публикаций на 15 языках, распространяющих пророссийский нарратив, — отслеживаются авторы и издательства, публикующие данные статьи.
При установлении ценностного суверенитета ряд акторов традиционно выступают за сохранение предыдущих неоколониальных укладов, зачастую обосновывая это дороговизной мероприятий по налаживанию эффективной системы регулирования негативных информационных экстерналий. Например, в РФ это наиболее ярко проявилось при имплементации положений «пакета И. Яровой» о хранении персональных данных15. В самом деле, для отдельных компаний или даже отраслей экономики стоимость установления цифрового и ценностного суверенитета может быть достаточно высокой. Однако чистая прибыль для общества в целом куда более масштабна. В российском случае — это сотни миллиардов долларов США ежегодно. Однако позволить себе данное регулирование может лишь сильное (как в экономическом, так и в технологическом плане) государство.
Социализация в эпоху конвергенции
Процесс социализации индивидуума состоит из нескольких этапов (рис. 3). Первичная социализация проходит в детстве (до 9 лет), в подростковом возрасте (с 9 до 15 лет), а также в молодости (с 16 до 18 лет), при этом уже в детстве личность человека формируется на 70 %. Вторичная социализация происходит в период зрелости (с 18 до 50 лет) и после него16.
Рис. 3. Основные этапы процесса социализации
Источник: Кулинич А. Механизмы социализации личности — что это, виды // Srazupro. URL: https://srazu.pro/socializacia/mexanizmy-socializacii-lichnosti.html (дата обращения: 17.02.2022).
Таблица 2. Основные институты социализации
Традиционные институты | Традиционные СМИ | Новые медиа | Новейшие медиа |
|
|
|
|
Источник: составлено автором.
Существуют различные институты социализации (табл. 2), при этом со временем меняется их относительная важность — все более важную роль начинают играть «новейшие медиа», связанные с цифровыми сервисами, — мессенджеры (Telegram, WhatsApp, Viber), TikTok и подкасты.
Представители разных поколений (по адаптированной классификации Штрауса — Хау (Strauss & Howe, 1997)) — зумеры или хоумлендеры (рожденные после 2003 г.); миллениалы (рожденные в 1985—2002 гг.); поколение Х (рожденные в 1964—1984 гг.) и бэби-бумеры (рожденные в 1944—1963 гг.)17 — имеют отличающиеся друг от друга предпочтения по основным каналам социализации (рис. 4).
Так, если среди поколения бэби-бумеров (1944—1963 г.р.) ежедневно на просмотр телевидения и аналогичные форматы в 2016—2017 гг. затрачивалось почти по 7 часов времени, а на слушание AM/FM радиостанций — почти по 3 часа, то далее эта доля существенно сокращается. У поколения X (1964—1984 г.р.) — уже по 4 и 2 часа, у поколения миллениалов (Y) (1985—2002 г.р.) — уже по 3 и 1,5 часа, а у поколения зумеров (Z) (c 2003 г. по н.в.) — всего 2 и 1 час соответственно. При этом поведенческие паттерны у одного поколения со временем не сильно изменяются, а вот различия между поколениями очень существенны. Наибольшее количество часов за просмотром Интернета в смартфонах наблюдается у поколения миллениалов (в 2017 г. достигало 2,5 часов в день) (Turow, 2020).
Рис. 4. Среднее время (в часах), затрачиваемое на разные виды медиа
Источник: (Turow, 2020, p. 323).
Поскольку первичная социализация происходит в раннем возрасте, она затрагивает преимущественно зумеров, а также миллениалов и проводится с учетом специфики используемых ими институтов социализации. Данные группы, прошедшие социализацию преимущественно в киберпространстве, лучше адаптированы к вызовам цифровой экономики, чем старшие, «аналоговые» поколения (Нечаев, Белоконев, 2020, с. 117). Эффект социализации усиливается, если для нее используется одновременно несколько институтов (см. табл. 2), что позволяет закрепить информационный контент традиционными способами. Успешным проектом такого рода являются «Киноуроки в школах России», когда при поддержке школьных учителей идет выработка социальных практик по ценностям, показанным в фильмах18.
Рис. 5. Организационная структура медиахолдинга Walt Disney
Источник: (Turow, 2020, p. 174).
Глобальные медийные холдинги занимаются сегодня интернет-видео, интернет-рекламой и интернет-новостями, кинопроизводством, ТВ, радио, издательской (газеты, журналы, книги), развлекательной деятельностью (видеоигры), а в последние пару лет — и технологиями дополненной (виртуальной) реальности. Главное — это контент, для распространения которого используются самые современные технологии и каналы продаж, в первую очередь в рамках сети Интернет. При этом ключевую роль начинают играть не официальные медиа, а популярные блогеры (в том числе детские) в рамках адаптированной к современным реалиям теории двухступенчатого потока информации Э. Каца (Katz, 1957).
Широкое распространение в медиа получил феномен конвергенции, связанный с повсеместным распространением ИКТ и формированием унифицированных коммуникаций (Зиновьева, 2019, с. 61). Речь идет о технологии ОТТ (Over the Top), то есть предоставлении видеоуслуг в цифровом формате через Интернет, а не через привычный канал телевещания.
Анализ корпоративных структур крупнейших медиахолдингов мира показывает бóльшую степень диверсификации их активов. Например, компания «Уолт Дисней» (4—5-е место в мире), специализирующаяся на социализации детей, включает в себя такие разные активы, как телеканал ABC, а также ESPN, сеть радиостанций и онлайн-сервисов ESPN, тематические парки Walt Disney, издательство Hyperion Books, а также анимационную студию (ранее — главный актив) (рис. 5).
Кросс-культурные различия в инструментах социализации населения различных стран связаны с уровнем проникновения сети Интернет, а также доступом к основным онлайн-приложениям. Поскольку уровень распространения персональных компьютеров в странах «Глобального Юга» крайне невысок, основным инструментом для доступа в Интернет выступают как раз мобильные телефоны. В этом контексте особое значение приобретает тот факт, имеют ли мобильные телефоны достаточный функционал для использования Интернета, в том числе удобного функционирования основных онлайн-приложений. В странах «Глобального Юга» распространение смартфонов (наиболее современных моделей телефонов, позволяющих осуществлять максимально широкое функционирование большинства онлайн-сервисов) неравномерно (см. рис. 5): от 86 % населения в Ливане до всего 32 % — в Индии19.
Пандемия COVID-19 также существенно повлияла на мировой медиапейзаж, изменив каналы распространения информации и фактически ускорив сокращение доли традиционных медиа (рис. 6). Снижается выручка печатных СМИ и традиционных телеканалов, а также сетей кинотеатров. Больше всего растет сегмент создания виртуальной реальности, предоставления видеоуслуг через Интернет (уже упоминавшийся ОТТ), видеоигр и электронного спорта.
Особое внимание также привлекает сегмент подкастов, то есть процесс создания и распространения звуковых или видеофайлов в стиле радио- и телепередач в Интернете (близкий к уже обозначенному формату ОТТ). За время пандемии наблюдался устойчивый рост как рекламной аудитории, так и количества слушателей подкастов (рис. 7).
Рис. 6. Совокупные среднегодовые темпы роста в основных сегментах отрасли глобальных развлечений и медиа в 2020—2024 гг.
Источник: (PWC, 2020, p. 14).
Рис. 7. Рекламные доходы и аудитория подкастов
Источник: (PWC, 2020, p. 19).
Сервис подкастов позволяет максимально кастомизировать предлагаемый информационный продукт, приводя к формированию транстерриториальных социальных и политических движений, которые возникают на основе общих (и достаточно узкоспециализированных) ценностей и интересов (Нечаев, Белоконев, 2020, с. 119).
Структурная сила Запада в коммуникационной сфере
В терминах международной политической экономии можно говорить о структурной силе «коллективного Запада» в коммуникационной сфере, которую (по С. Стрэндж) условно можно отнести к одной из составляющих «структуры знаний» (knowledge structure) — четвертой структурной власти «первого уровня» наравне с безопасностью, производством и финансами (Strange, 1994, pp. 119—138). Фактически речь идет о глобальных самоокупаемых системах по воспроизводству западных социальных норм и ценностей.
Возникший под эгидой Агентства передовых оборонных исследований США (DARPA) Интернет (ARPA-net) первоначально представлялся как «ничья земля», «всеобщее благо», а киберпространство пытались наделить «цифровой исключительностью» и объявить неподвластным национальным границам (Зиновьева, 2022, с. 8—13). Доминирование в цифровой экономике первых социальных платформ из Калифорнии (США), а среди первых пользователей Интернета — жителей западных стран наложилось на «однополярный момент» в мировой политике, поэтому американские подходы к регулированию глобальной сети первоначально не оспаривались. Более того, если в 2009 г. в мире существовало почти два десятка социальных сетей, которые были национальными лидерами как в западных, так и незападных странах, то впоследствии почти всех их вытеснила американская сеть Facebook (рис. 8). США заставили отказаться от амбиций на существование собственных социальных сетей даже своих союзников, взяв курс на создание технологической гегемонии и извлечение связанной с этим суперренты (Cuihong Cai, 2020, p. 49).
В большинстве стран постсоветского пространства между тем лидирует российская «ВКонтакте» (VK), а в более традиционных обществах (Молдавия, Грузия, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан) долгое время также доминировали российские «Одноклассники». В КНР и Иране применяется административный запрет на Facebook, поэтому в КНР на первое место вышла сеть QZone (разработка китайской компании Tencent, ныне — QQ), получил распространение также мессенджер WeChat и сервис микроблогов Weibo, а в Иране (в отсутствие собственных конкурентных разработок) — другая американская социальная сеть Instagram (21.03.2022 г. Тверской районный суд г. Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и признал деятельность соцсети Instagram, принадлежащей Meta, экстремистской, запретив ее работу в России. — Прим. ред.).
Американское доминирование в киберпространстве усиливается и лидерством поисковика Google, на который, по ряду оценок, приходится свыше 90 % всех запросов в сети Интернет. Лишь в нескольких странах Google не является монополистом, в том числе в РФ (делит лидерство с «Яндексом»), КНР (доминирует Baidu) и США (чуть более 10 % рынка приходится на Bing (от Microsoft), Yahoo! и DuckDuckGo)20. Фактически речь идет о «монополии на правду», глобальном контроле над информацией и информационным обществом либо об уже упоминавшемся цифровом тоталитаризме, ведь 90 % интернет-пользователей в мире получают тот ответ на поисковый запрос, который выдает им компания Google, и подвержены влиянию алгоритмов Facebook, а также YouTube.
В контексте медиаконвергенции социальные платформы интегрированы в крупные коммуникационные холдинги, включающие как традиционные СМИ (газеты, телевидение), так и новые интернет-медиа. С 2007 г. американское коммуникационное агентство ZenithOptimedia готовило рейтинг крупнейших владельцев глобальных медиа (табл. 3), ранжируя их по доходам от рекламы. Последний такой рейтинг выходил в 2017 г.
Из данных табл. 3 видно, что в 2013 г. в ТОП-30 восходящие державы были представлены лишь двумя латиноамериканскими телеканалами. В 2015 г. началось «продвижение» китайской поисковой системы Baidu и китайского телеканала CCTV. В 2017 г. к ним добавилась и китайская корпорация Tencent, поддерживающая сервисы обмена быстрыми сообщениями QQ и WeChat.
Схожий рейтинг медиаконцернов мира с 2007 г. готовит немецкий Институт медиа- и коммуникационной политики. В рейтинге 2020 г. на 4-м месте находится китайская компания Tencent c выручкой в 61 млрд евро, на 9-м — ByteDance (разработчик сервиса коротких видеосообщений TikTok) с выручкой в 32 млрд евро, на 11-м — Шанхайская медиагруппа (28 млрд евро), на 22-м — Baidu (14,3 млрд евро)21.
Рис. 8. Лидирующая социальная сеть по странам мира в июне 2009 г. (слева) и в январе 2022 г. (справа)
Источник: World Map of Social Networks. URL: http://vincos.it/world-map-of-social-networks/ (accessed: 17.02.2022).
Таблица 3. ТОП-30 глобальных медиа в 2013—2017 гг.
№ п/п | 2013 | 2015 | 2017 | |||
1 | США | США | Alphabet (Google) | США | ||
2 | DirectTV | США | Walt Disney | США | США | |
3 | News Corp. | Австрал. | Comcast | США | Comcast | США |
4 | Walt Disney | США | XXI Century Fox | США | Baidu | КНР |
5 | Comcast | США | CBS Corp. | США | Walt Disney | США |
6 | Time Warner | США | Bertelsmann | ФРГ | XXI Century Fox | США |
7 | Bertelsmann | ФРГ | Viacom | США | CBS Corp. | США |
8 | Cox Enterprises | США | Time Warner | Великобр. | iHeartMedia | США |
9 | CBS Corp. | США | News Corp. | ФРГ | Microsoft | США |
10 | BSkyB | Великобр. | США | Bertelsmann | ФРГ | |
11 | Viacom | США | Advance Publ. | США | Viacom | США |
12 | Vivendi | Франция | iHeartMedia | США | Time Warner | США |
13 | Advance Publ. | США | Discovery | США | Yahoo | США |
14 | Clear Channel Com | США | Baidu | КНР | Tencent | КНР |
15 | Yahoo! | США | Gannett | США | Hearst | США |
16 | Gannett | США | Asahi Shimbun Com | Япония | Advance Publications | США |
17 | Globo | Бразилия | Grupo Globo | Бразилия | JCDecaux | Франция |
18 | Grupo Televisa | Мексика | Yahoo! | США | News Corp. | США |
19 | Fuji Media Hold. | Япония | Fuji Media | Япония | Grupo Globo | Бразилия |
20 | Yomiuru Holdings | Япония | CCTV | КНР | CCTV | КНР |
21 | Axel Springer | ФРГ | Microsoft | США | Verizon | США |
22 | Mediaset | Италия | Hearst Corp. | США | Mediaset | Италия |
23 | Hearst Corp. | США | JCDecaux | Франция | Discovery | США |
24 | JCDecaux | Франция | Yomiuru Hold. | Япония | TEGNA | США |
25 | Asahi Shimbun Com | Япония | Mediaset | Италия | ITV | Великобр. |
26 | Microsoft | США | Axel Springer | ФРГ | ProSiebenSat | ФРГ |
27 | США | ITV plc | Великобр. | Sinclair Broadcasting | США | |
28 | ProSiebenSat | ФРГ | ProSiebenSat | ФРГ | Axel Springer | ФРГ |
29 | ITV plc | Великобр. | NTV | Канада | Scripps Networks Int | США |
30 | Sanoma | Финлянд. | Sanoma | Финлянд. | США | |
Примечание. Затемнены показатели по восходящим державам.
Источник: Chinese Companies Enter Top 30 Global Media Owners for First Time // ZenithOptimedia. May 6, 2014. URL: https://www.zenithmedia.com/chinese-companies-enter-top-30-global-media-owners-for-first-time/ (accessed: 13.06.2022); Here Are the World’s Top Earning Media Owners // Marketing-Interactive. May 11, 2015. URL https://www.marketing-interactive.com/top-30-earning-media-owners-globally (accessed: 13.06.2022); Google and Facebook Now Control 20% of Global Adspend // ZenithOptimedia. 2017. URL https://www.zenithusa.com/wp-content/uploads/2017/06/Top-30-Global-Media-Owners-2017_Press-Release_US.pdf (accessed: 13.06.2022).
Таблица 4. ТОП-10 новостных медиакомпаний англоязычной среды в 2019 г.
№ п/п | Компания | Страна | Бренды | Общий доход, млрд долл. США | Доход от новостного/информ. бизнеса, млрд долл. США |
1 | Alphabet | США | Google, Google News, YouTube | 161, 9 | 150,0 |
2 | США | Facebook, Instagram, WhatsApp | 70,7 | 69,7 | |
3 | Apple | США | Apple News, Apple News+, Apple TV, Apple One | 260,2 | 53,8 |
4 | Walt Disney | США | ESPN, National Geographic, ABC, Viceland | 65,4 | 28,4 |
5 | Comcast | США | MSNBC, NBC Sky, Sky News | 108,9 | 25,5 |
6 | ViacomCBS | США | CBS, Chanel 5, MTV | 27,8 | 24,4 |
7 | Netflix | США | Netflix | 20,2 | 20,2 |
8 | Amazon | США | Amazon Prime Video, Kindle, Audible, Twitch | 280,5 | 19,2 |
9 | ByteDance | КНР | TikTok | 16,0 | 16,0 |
10 | Microsoft | США | MSN, LinkedIn | 143,0 | 15,8 |
Источник: Turvill W. The News 50: Tech Giants Dwarf Rupert Murdoch to Become the Biggest News Media Companies in the English-Speaking World // PressGazette. December 3, 2020. URL: https://www.pressgazette.co.uk/biggest-media-companies-world/ (accessed: 17.02.2022).
Кроме развлекательного контента на формирование ценностей большое влияние оказывает новостная и информационная повестка, продвигаемая ведущими мировыми холдингами, в том числе на английском языке, который выступает языком международного общения (табл. 4).
Помимо подавляющего доминирования США в данном рейтинге (9 из 10 компаний) следует отметить и «конвергентный» характер бизнеса основных участников, подробно рассмотренный в предыдущем разделе (Ciasullo, Troisi & Cosimato, 2018). Так, провайдерами информационного (а следовательно, и ценностного) контента выступают как социальные платформы (Alphabet, Facebook, ByteDance), создатели мультфильмов и фильмов (Walt Disney, Netflix), дистрибьюторы контента (Amazon), так и разработчики программного обеспечения и компьютеров (Microsoft, Apple), а также представители индустрии кабельного телевидения (Comcast, ViacomCBS). Все они — ключевые акторы глобального информационного общества (Зиновьева, 2019, с. 83—92), «кующие» структурную силу «коллективного Запада» в медиасфере.
Многополярность в сетевом пространстве
Интернет представляет собой новое мировое политическое пространство (Международные отношения России…, 2011), режимы управления которым находятся на стадии определения повестки дня, а взаимодействие основных акторов — в процессе торга (Зиновьева, 2019, с. 36). Идет активное конструирование международно-правовых режимов, причем лишь часть мировых акторов (США, КНР, ЕС и РФ) можно отнести к rule-makers (то есть к тем, кто формирует «правила игры»), остальные («маргинальное большинство») — к rule-takers. Таким образом, в киберпространстве формируется такая же иерархичная система, как и в традиционном политическом пространстве (Дегтерев, Рамич, Цвык, 2021b, с. 215).
Легитимные усилия национальных государств по установлению суверенитета в киберпространстве еще несколько лет назад всячески стигматизировались. Так, в 2016 г. в журнале The Economist был введен термин «балканизация Интернета» (Зиновьева, 2022, с. 11), то есть подразумевалось, что формирование национальных сегментов глобальной сети сродни неконтролируемому и кровавому хаосу распада Югославии. В этом же ключе следует рассматривать и широко распространенный термин «техно-национализм» (Cuihong Cai, 2020): последовательная национальная политика в области информационной безопасности отождествлялась чуть ли не с фашизмом.
Однако, несмотря на подавляющее превосходство США, описанное в предыдущем разделе, либеральный киберинтервенционизм постепенно начал пробуксовывать. Ключевую роль в этом сыграли Китай и Российская Федерация, способствовавшие формированию многополярности в информационной сфере.
В КНР были созданы мощные ИТ-холдинги — Baidu, Alibaba, Tencent, and Xiaomi (BATX), фактически выступившие действенной альтернативой американской «пятерке» GAFAM и бросившие вызов информационной «структурной силе» «коллективного Запада». На сегодняшний день крупнейшим и, пожалуй, наиболее стремительным успехом незападной медиакомпании, в том числе и в западном медиапространстве, является ByteDance. Ее сервисом TikTok в настоящее время пользуются более 2 млрд чел. в мире, а выручка по итогам 2021 г. достигла 58 млрд долл. США[22], выводя ее в ТОП-5 мировых медиакомпаний. Успех компании встревожил американских медиарегуляторов, которые стали говорить о возможности блокирования компании в западных странах, а сама компания — о продаже своего американского бизнеса компании Oracle, однако после ухода Д. Трампа она сменила состав ключевых акционеров (вошел ряд американских фондов) и управляющих, но продолжила работу в США23.
В КНР были приняты наиболее проработанные правила регулирования национального Интернета, реализована стратегия «сильного сетевого государства», а вопросы обеспечения информационной безопасности и «интернет-суверенитета» стали приоритетами национальной безопасности24. Китай первым показал, что всей мощи западной структурной медиасилы можно противопоставить последовательные усилия по отстаиванию своего информационного суверенитета, что «новая этика» — это не объективная социальная реальность, а пропаганда псевдонаучных теорий, с которыми можно и нужно бороться (Лукин, 2021). Обеспечив собственный ценностный (и шире — информационный) суверенитет, КНР приняла активное участие в создании альтернативных американским правил управления глобальным Интернетом (Дегтерев, Рамич, Пискунов, 2021a).
В целом китайскую стратегию эксперты называют оборонительным техно-национа-лизмом с независимостью и сотрудничеством (упор на собственные технологические разработки), в то время как американскую — наступательным техно-национализмом с односторонним гегемонизмом (Cuihong Cai, 2020). Прослеживается прямая аналогия с двумя подходами реалистической парадигмы — оборонительным К. Уолтца (акцент на обеспечение собственной безопасности) и наступательным Дж. Миршаймера (максимизация собственной мощи) (Mearsheimer, 2014).
На первом этапе страны «коллективного Запада» представляли китайский кейс скорее как аберрацию, которой не должен был следовать «свободный мир». В РФ изначально не вводилось жестких ограничений относительно использования глобальных социальных платформ. В свободной конкурентной борьбе российские разработчики социальных платформ «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram и интернет-сервисов («Яндекс», «Озон» и др.) на равных конкурировали с глобальными компаниями, укрепляя тем самым информационный суверенитет России. Проект П. Дурова Telegram стал самым быстрорастущим приложением 2021 г. в мире25, являя собой прообраз структурной силы не-Запада в области коммуникаций. Все большее количество пользователей в РФ, странах Азии и Африки, а также в западных странах, включая США, выбирают данный мессенджер как альтернативу «конвенциональным» западным продуктам.
Россия приняла активное участие в разработке принципов международной информационной безопасности на основе суверенного равенства в рамках БРИКС и ШОС, инициировала работу Группы правительственных экспертов ООН (ГПЭ), а также Рабочую группу ООН открытого состава (РГОС) по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ на период 2021—2025 гг.
В ЕС формируется несколько иная модель регулирования цифрового пространства и продвижения ценностей (Roberts et al., 2021; Burwell & Propp, 2020), которую можно охарактеризовать как оборонительный техно-национализм с многосторонним сотрудничеством (Cuihong Cai, 2020, pp. 50—51).
В то же время в странах Азии и Африки постепенно увеличивалось число интернет-пользователей, составляющих большинство уже на данный момент. Естественно, продвигаемые в сети западноцентричные нарративы мало соответствовали традиционным ценностным установкам новых пользователей (Noor, 2020, p. 39).
Однако «последний гвоздь в крышку» «свободного Интернета» забили сами американцы, которые ввели максимально жесткие правила интернет-цензуры во время президентских выборов 2020 г. и заблокировали Twitter Д. Трампа26. Власти США обосновали данные меры необходимостью бороться с дезинформацией для обеспечения законности выборов (Ray et al., 2020, p. 7), то есть ровно тем же, чем руководствовались незападные страны, устанавливая национальные правила информационной безопасности.
По мере формирования национальных режимов обеспечения информационной безопасности и интернет-суверенитета эксперты стали все больше говорить о регионализации глобальной сети (Зиновьева, 2019, с. 64—68) и формировании «технологических островов»27. Данный процесс только ускорился после обострения ситуации на Украине в феврале 2022 г. Из-за нежелания блокировать призывы к насилию в отношении граждан РФ и Белоруссии компания Meta (социальные сети Facebook и Instagram) 21 марта 2022 г. была признана экстремистской, а ее деятельность запрещена на территории РФ28.
Как представляется, это отражение более долгосрочной тенденции на технологический декаплинг, связанный с формированием «новой биполярности», созданием замкнутых контуров «коллективного Запада» и «коллективного не-Запада» (Дегтерев, Рамич, Цвык, 2021b). Данные тенденции будут только усиливаться, ведь украинский кризис — это локальное противостояние в глобальном «транзите власти» (США — КНР). Секьюритизация информационного пространства, использования его в военных целях для воздействия на население противника будет пресекаться основными конфликтующими сторонами, что будет приводить к формированию новых информационных барьеров.
Выводы
В современную цифровую эпоху ускорились процессы конвергенции между традиционными СМИ (ТВ, радио, пресса) и новыми интернет-медиа (социальные платформы, блоги, подкасты). Цифровое пространство многократно усиливает информационное воздействие, а его использование становится основным механизмом социализации населения. В сложившихся условиях критическую важность приобретает обеспечение информационного, в том числе ценностного, суверенитета, представляющего собой комплексный процесс, включающий технологическую, программную и содержательную составляющие.
Если в первые годы развития Интернета, пришедшиеся на «однополярный момент», киберпространство представляли как «ничью землю» и «всеобщее благо» (по факту — это была монополия гегемона), то на сегодняшний день дискурс о недопущении «балканизации» Интернета уже не актуален. Большинство ведущих стран мира перешли к созданию собственных режимов обеспечения информационного суверенитета. В текущих реалиях стоит вопрос сопряжения различных глобальных подходов к обеспечению информационной безопасности (Lewis, 2020, p. 65).
В условиях подавляющего доминирования стран «коллективного Запада» в глобальном медиапространстве (коммуникационная структурная сила) незападные страны используют асимметричные стратегии — национальные модели регулирования информационного контента, развивая многополярность в сетевом пространстве. Например, наиболее проработанная («трехступенчатая») модель регулирования социальных сетей сложилась на сегодняшний день в КНР29. Соседи РФ по постсоветскому пространству также используют свои механизмы регулирования контента в социальных сетях30 и формируют собственные коммуникационные режимы (Бегалинова и др., 2021). В последние годы в России также был проработан целый ряд вопросов, связанных с регулированием медиапространства, а ценностный суверенитет рассматривается уже как отдельное направление обеспечения национальной безопасности.
В процессе оказания информационных услуг необходим учет рыночным регулятором негативных экстерналий, влияющих на структуру потребительского спроса, политическую систему и принципы целеполагания в стране. Учет законных требований регулятора создает предпосылки для ухода от неоколониальных моделей взаимодействия глобальных ИТ-холдингов с медиасредой незападных стран.
1 Проблема ценностного суверенитета затрагивалась в более ранней работе автора — развернутом экспертном комментарии для РСМД, отдельные части которого использовались при написании данной статьи. См.: Дегтерев Д. А. Распространение социальных норм и ценностей в постпандемийном мире: от реактивного к проактивному подходу // РСМД. 02.02.2022. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/rasprostranenie-sotsialnykh-norm-i-tsennostey-v-postpandemiynom-mire-ot-reaktivnogo-k-proaktivnomu-p/ (дата обращения: 17.02.2022).
2 Подробнее см.: RUDN G2 Research Project. URL: https://g2.rudn.ru/ (accessed: 17.02.2022).
3 21.03.2022 г. Тверской районный суд г. Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и признал деятельность соцсети Facebook, принадлежащей Meta, экстремистской, запретив его работу в России.
4 Мартин Р. Слияния и поглощения: не проиграть в лотерее // Harvard Business Review Russia. URL: https://hbr-russia.ru/management/strategiya/a18140/ (дата обращения: 17.02.2022).
5 Кузнецов М., Перемитин Г. Облако и реклама: что помогло акциям Amazon взлететь // Forbes. 04.02.2022. URL: https://www.forbes.ru/investicii/454613-oblako-i-reklama-cto-pomoglo-akciam-amazon-vzletet (дата обращения: 17.02.2022).
6 Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // Президент России. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046/ (дата обращения: 17.02.2022).
7 Щипков Александр: России необходимо отстаивать «ценностный суверенитет» // Московский Патриархат. 12.10.2021. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5851896.html (дата обращения: 17.02.2022).
8 Песков Д. «Остров Россия». Спецпредставитель президента о новой цифровой стратегии // РБК. 09.06.2022. URL: https://www.rbc.ru/opinions/economics/09/06/2022/62a0e95b9a79472d8b713207 (дата обращения: 10.06.2022).
9 Журавлева Е. В. Регулирование социальных медиа в КНР // РСМД. 24.01.2022. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/cybercolumn/regulirovanie-sotsialnykh-media-v-knr/ (дата обращения: 17.02.2022). См. также: (Журавлева, 2022).
10 Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ // Министерство юстиции РФ. 31.05.2022. URL: https://minjust.gov.ru/ru/documents/7756/ (дата обращения: 09.06.2022).
11 Федеральный закон от 05.04.2021 № 85-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации”» // Официальный интернет-портал правовой информации. 05.04.2021. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104050036 (дата обращения: 09.06.2022).
12 Моргенштерна внесли в иноагенты за политическую деятельность и сотрудничество с Yoola Labs // BFM.RU. 07.05.2022. URL: https://www.bfm.ru/news/499450 (дата обращения: 09.06.2022).
13 Проведение общественного обсуждения уведомления при разработке проекта нормативного правового акта «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» // Федеральный портал проектов нормативно-правовых актов. URL: https://regulation.gov.ru/projects#npa=123967 (дата обращения: 09.06.2022).
14 EUvsDisinfo. URL: https://euvsdisinfo.eu/ (accessed: 09.06.2022).
15 Кинякина Е. Цена закона: почему «пакет Яровой» обойдется в 45 млрд рублей // Forbes. 14.05.2018. URL: https://www.forbes.ru/tehnologii/361401-cena-zakona-pochemu-paket-yarovoy-oboydetsya-v-45-mlrd-rubley (дата обращения: 09.06.2022).
16 Кулинич А. Механизмы социализации личности — что это, виды // Srazupro. URL: https://srazu.pro/socializacia/mexanizmy-socializacii-lichnosti.html (дата обращения: 17.02.2022).
17 RuGenerations — Российская школа теории поколений. URL: https://rugenerations.su/ (дата обращения: 17.02.2022).
18 Подробнее см.: Панельная сессия 2. Проблема ценностей на Евразийском пространстве и механизмы их распространения. VII Международная конференция «Внешняя политика России на евразийском пространстве». РУДН, 10.12.2021 г. // Youtube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=XfL3ajY6zpA (дата обращения: 17.02.2022).
19 Silver L. et al. Use of Smartphones and Social Media Is Common Across Most Emerging Economies // Pew Research Center. March 7, 2019. URL: https://www.pewresearch.org/internet/2019/03/07/use-of-smartphones-and-social-media-is-common-across-most-emerging-economies/#table (accessed: 17.02.2022).
20 Search Engine Market Share Worldwide 2022 // Statcounter Global Stats. URL: https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share#yearly-2022-2022-bar (accessed: 13.06.2022).
21 Die 50 größten Medien- und Wissenskonzerne 2020 // Institut für Medien- und Kommunikationspolitik. 2021. URL: https://www.mediadb.eu/de/datenbanken/internationale-medienkonzerne.html (accessed: 17.02.2022).
22 Котченко К. Выручка владельца TikTok увеличилась на 70 % за 2021 год. Рост замедлился // РБК. 20.01.2022. URL: https://quote.rbc.ru/news/short_article/61e95d1a9a794713e519eb30 (дата обращения: 17.02.2022).
23 Gerstein J. ByteDance Is Walking Away from Its Tiktok Deal with Oracle Now That Trump Isn’t in Office, Report Says // BusinessInsider. February 15, 2021. URL: https://www.businessinsider.com/bytedance-ending-oracle-deal-because-trump-is-out-scmp-2021-2 (accessed: 17.02.2022).
24 Журавлева Е. В. Регулирование социальных медиа в КНР // РСМД. 24.01.2022. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/cybercolumn/regulirovanie-sotsialnykh-media-v-knr/ (дата обращения: 17.02.2022). См. также: (Понька, Рамич, У, 2020).
25 Bikker G. 2021: The Year The World Is Set to Spend $135 Billion Dollars – In Mobile Apps and Games in New Record // Data.Ai. December 8, 2021. URL: https://www.data.ai/en/insights/market-data/2021-end-year-mobile-apps-recap/ (accessed: 17.02.2022).
26 Полякова В. Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа // РБК. 09.01.2021. URL: https://www.rbc.ru/politics/09/01/2021/5ff8f6599a7947cb28665d7e (дата обращения: 17.02.2022).
27 Песков Д. «Остров Россия». Спецпредставитель президента о новой цифровой стратегии // РБК. 09.06.2022. URL: https://www.rbc.ru/opinions/economics/09/06/2022/62a0e95b9a79472d8b713207 (дата обращения: 10.06.2022).
28 Локотецкая М. Суд признал Meta экстремистской организацией и запретил на территории России // BFM. 21.03.2022. URL: https://bfm-ru.turbopages.org/bfm.ru/s/news/495697 (дата обращения: 10.06.2022).
29 Журавлева Е. В. Регулирование социальных медиа в КНР // РСМД. 24.01.2022. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/cybercolumn/regulirovanie-sotsialnykh-media-v-knr/ (дата обращения: 17.02.2022).
30 Курылев К. П. Регулирование Интернета на постсоветском пространстве // РСМД. 15.11.2021. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/cybercolumn/regulirovanie-interneta-na-postsovetskom-prostranstve/ (дата обращения: 17.02.2022).
Об авторах
Денис Андреевич Дегтерев
Российский университет дружбы народов; МГИМО МИД России; СПбГУ, Санкт-Петербург
Автор, ответственный за переписку.
Email: degterev-da@rudn.ru
ORCID iD: 0000-0001-7426-1383
доктор политических наук, кандидат экономических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и истории международных отношений Российского университета дружбы народов; профессор кафедры мировой экономики МГИМО МИД России; профессор кафедры европейских исследований СПбГУ
Москва, Российская Федерация; Санкт-Петербург, Российская ФедерацияСписок литературы
- Агамбен Дж. Homo Sacer. Суверенная власть и голая жизнь. Москва : Европа, 2011.
- Ахмадеев К. Н., Бреслер М. Г., Манойло А. В. Эффективность fake news как инструмента информационной войны в восприятии поколения Z // Вестник Московского государственного областного университета. 2021. № 3. С. 8-32. https://doi.org/10.18384/2224-0209-2021-3-1084
- Бегалинова К. К., Грибин Н. П., Комлева В. В., Котюкова Т. В., Назаров Р. Р. и др. Коммуникационные режимы в странах Центральной Азии: научная дискуссия // Россия и мир: научный диалог. 2021. Т. 1, № 2. C. 96-137. https://doi.org/10.53658/RW2021-1-2-96-137
- Володенков С. В., Воронов А. С., Леонтьева Л. С., Сухарева М. Цифровой суверенитет современного государства в условиях технологических трансформаций: содержание и особенности // Полилог. 2021. Т. 5, № 1. https://doi.org/10.18254/S258770110014073-2
- Гасумянов В. И., Комлева В. В. Коммуникационные режимы как фактор межстрановых взаимодействий: постановка проблемы // Международная жизнь. 2020. № 10. С. 38-49.
- Данилин И. В. Влияние цифровых технологий на лидерство в глобальных процессах: от платформ к рынкам? // Вестник МГИМО-Университета. 2020. Т. 13, № 1. С. 100-116. https://doi.org/10.24833/2071-8160-2020-1-70-100-116
- Дегтерев Д. А. Теоретико-игровой анализ международных отношений. Москва : Аспект Пресс, 2017.
- Дегтерев Д. А. Теоретико-игровой подход в маркетинге. Москва : РУДН, 2014.
- Дегтерев Д. А., Рамич М. С., Пискунов Д. А. Подходы США и КНР к глобальному управлению киберпространством: «новая биполярность» в «сетевом обществе» // Вестник международных организаций. 2021a. Т. 16, № 3. С. 7-33. https://doi.org/10.17323/1996-7845-2021-03-01
- Дегтерев Д. А., Рамич М. С., Цвык А. В. США - КНР: «властный транзит» и контуры «конфликтной биполярности» // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2021b. Т. 21, № 2. С. 210-231. https://doi.org/10.22363/2313-0660-2021-21-2-210-231
- Журавлева Е. В. Китайский опыт продвижения норм и ценностей путем регулирования социальных медиа // Проблемы Дальнего Востока. 2022. № 2. C. 97-110. https://doi.org/10.31857/S013128120019294-4
- Зиновьева Е. С. Глобальное управление Интернетом: российский подход и международная практика // Вестник МГИМО-Университета. 2015. Т. 43, № 4. С. 111-118. https://doi.org/10.24833/2071-8160-2015-4-43-111-118
- Зиновьева Е. С. Международное сотрудничество по обеспечению информационной безопасности: субъекты и тенденции эволюции: дис. … д-ра полит. наук. Москва : МГИМО, 2019.
- Зиновьева Е. С. Формирование цифровых границ и информационная глобализация: анализ с позиций критической географии // Полис. Политические исследования. 2022. № 2. С. 8-21. https://doi.org/10.17976/jpps/2022.02.02
- Кутюр С., Тоупин С. Что означает понятие «суверенитет» в цифровом мире? // Вестник международных организаций. 2020. Т. 15, № 4. С. 48-69. https://doi.org/10.17323/1996-7845-2020-04-03
- Лавлок К. Маркетинг услуг: персонал, технологии, стратегии. 4-е изд. Москва : Вильямс, 2005.
- Лукин А. В. Право на безумие // Россия в глобальной политике. 2021. Т. 19, № 5. С. 172-192. https://doi.org/10.31278/1810-6439-2021-19-5-172-192
- Манохин В. А. Экстерналии развития информационного рынка: дис. … канд. эконом. наук. Саратов : СГСЭУ, 2010.
- Международные отношения России в «новых политических пространствах». Космос. Приполярные зоны. Воздушные и морские пространства. Глобальная информационная сфера / под ред. А. Д. Богатурова. Москва : URSS, 2011.
- Нечаев В. Д., Белоконев С. Ю. Цифровая экономика и тенденции политического развития современных обществ // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2020. Т. 13, № 2. С. 112-133. https://doi.org/10.23932/2542-0240-2020-13-2-6
- Понька Т. И., Рамич М. С., У Ю. Информационная политика и информационная безопасность КНР: развитие, подходы и реализация // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2020. Т. 20, № 2. C. 382-394. https://doi.org/10.22363/2313-0660-2020-20-2-382-394
- Федорченко С. Н. Реконцептуализация наследия В.Л. Цымбургского: политическая легитимация в условиях цифровизации международных отношений // Журнал политических исследований. 2021. Т. 5, № 2. С. 66-86. https://doi.org/10.12737/2587-6295-2021-5-2-66-86
- Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. Москва : Дело, 1995.
- Шмитт К. Диктатура. От истоков современной идеи суверенитета до пролетарской классовой борьбы. Санкт-Петербург : Наука, 2005.
- Bartelson J. A Genealogy of Sovereignty. Cambridge : Cambridge University Press, 1995.
- Burwell F. G., Propp K. The European Union and the Search for Digital Sovereignty: Building “Fortress Europe” or Preparing for a New World? Washington, D.C. : Atlantic Council Future Europe Initiative, 2020.
- Ciasullo V. M., Troisi O., Cosimato S. How Digital Platforms Can Trigger Cultural Value Co-Creation? - A Proposed Model // Journal of Service Science and Management. 2018. No. 11. P. 161-181. https://doi.org/10.4236/jssm.2018.112013
- Cuihong Cai. Building a New Digitalised World through Technology Centrism // Digital Debates: CyFy Journal. 2020. P. 48-53.
- Culpepper P. D., Thelen K. Are We All Amazon Primed? Consumers and the Politics of Platform Power // Comparative Political Studies. 2020. Vol. 53, no. 2. P. 288-318. https://doi.org/10.1177/0010414019852687
- Katz E. The Two-Step Flow of Communication: An Up-To-Date Report on an Hypothesis // The Public Opinion Quarterly. 1957. Vol. 21, no. 1. P. 61-78. https://doi.org/10.1086/266687
- Keohane R. O. Ironies of Sovereignty: The European Union and the United States // Journal of Common Market Studies. 2002. Vol. 40, no. 4. P. 743-765. https://doi.org/10.1111/1468-5965.00396
- Krasner S. D. Sovereignty: Organized Hypocrisy. Princeton : Princeton University Press, 1999.
- Lewis J. Digital Sovereignty in a Time of Conflict // Digital Debates: CyFy Journal. 2020. P. 65-74.
- Mearsheimer J. The Tragedy of Great Power Politics. New York, NY : W. W. Norton & Company, 2014.
- Noor E. Rethinking Decoupling: Interdependence, Dependence, Independence // Digital Debates: CyFy Journal. 2020. P. 36-46.
- Pohle J., Thiel T. Digital Sovereignty // Internet Policy Review. 2020. Vol. 9, no. 4. P. 1-19. https://doi.org/10.14763/2020.4.1532
- PWC. Global Entertainment and Media Outlook, 2020-2024. PricewaterhouseCoopers Norge, 2020.
- Ray T., Warjri L. B., Jayakumar A., Saran S. Editors’ Note // Digital Debates: CyFy Journal. 2020. P. 6-11.
- Roberts H., Cowls J., Casolari F., Morley J., Taddeo M., Floridi L. Safeguarding European Values with Digital Sovereignty: An Analysis of Statements and Policies // Internet Policy Review. 2021. Vol. 10, no. 3. P. 1-26. https://doi.org/10.14763/2021.3.1575
- Strange S. State and Markets. 2nd edition. London : Continuum, 1994.
- Strange S. The Retreat of the State: The Diffusion of Power in the World Economy. Cambridge : Cambridge University Press, 1996. https://doi.org/10.1017/CBO9780511559143
- Strauss W., Howe N. The Fourth Turning: An American Prophecy - What the Cycles of History Tell Us About America’s Next Rendezvous with Destiny. New York, NY : Broadway Books, 1997.
- Turow J. Media Today. Mass Communication in a Converging World. 7th edition. London : Routledge, 2020.
- Yeli H. A Three-Perspective Theory of Cyber Sovereignty // PRISM. 2017. Vol. 7, no. 2. P. 109-115.
Дополнительные файлы