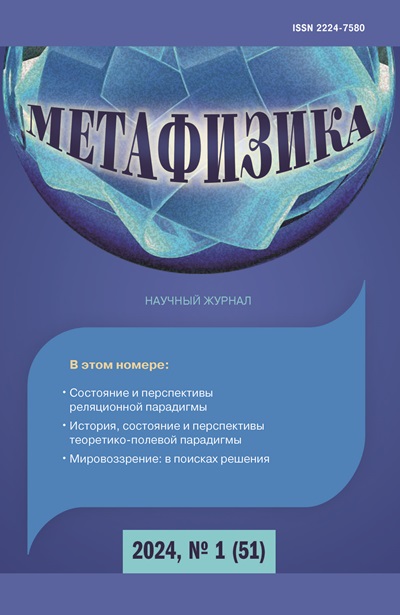О НАУЧНЫХ СТАНДАРТАХ В БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУКАХ И АВТОРСКОЙ ЭВОЛЮЦИОННОЙ ГИПОТЕЗЕ «КРЕАЦИОННО-САЛЬТАЦИОННЫЙ ПРЕФОРМИЗМ»
- Авторы: Сидоров Г.Н.1,2,3, Шустова О.Б.4
-
Учреждения:
- Омский государственный педагогический университет
- Омский научно-исследовательский институт природно-очаговых инфекций
- Омская духовная семинария Омской епархии русской православной церкви
- Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина
- Выпуск: № 1 (2024)
- Страницы: 133-143
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.rudn.ru/metaphysics/article/view/39558
- DOI: https://doi.org/10.22363/2224-7580-2024-1-133-143
- EDN: https://elibrary.ru/KHTHKJ
- ID: 39558
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В биологической науке стандартами признаются характеристики живой природы, являющейся объективной реальностью и непосредственно наблюдаемой исследователями в прошлом или в настоящем. Сменяющимися парадигмальными стандартами появления и развития жизни были теории: преформизма (Ш. Бонне), материалистической эволюции (Ч. Дарвина), биохимической эволюции (А.И. Опарина - Дж. Холдейна), «мичуринской биологии» (Т.Д. Лысенко) синтетической теории эволюции (дарвинизм + генетика). К признанию в качестве парадигм приближаются «номогенез» Л.С. Берга как закономерный характер изменчивости и «теория прерывистого равновесия» Н. Элдриджа и С. Гулда как современный апофеоз многообразных гипотез сальтационизма - «скачкообразной эволюции». Авторы в 2003 году предложили комплексный, научно-апологетический подход к теории эволюции, сочетающий как материалистическую, так и креационную парадигмы, выдвинув гипотезу «креационно-сальтационный преформизм»: 1) организмы созданы Богом - креационизм; 2) созданы с огромным запасом генетической информации - преформизм; 3) переход одних групп организмов в другие происходит скачками, в рамках генетической информации, путем быстрого развертывания этой информации под влиянием изменений среды как внешней, так и внутренней - сальтационизм. Каждый из стандартов, признанных в свое время парадигмами, объявлялся истиной в последней инстанции, а его непризнание клеймилось, в лучшем случае, печатью невежества или мракобесия, в худшем - административными и уголовными преследованиями. Философия науки призвана помочь избавиться от традиционализма, не обязана руководствоваться наработками предшественников и может мыслить в любом оригинальном направлении.
Ключевые слова
Полный текст
Наука, как деятельность людей, собирающая и анализирующая объективные и субъективные знания о природе и человеческой деятельности, возникла в контексте исторических этапов развития рациональности. Информация, как содержание внешнего мира, поступала к людям в определенный исторический период и всегда пропускалась через призму господствующего в обществе мировоззрения: мифологического, религиозного, научного, идеологического с их разновидностями: космоцентризмом, теоцентризмом, антропоцентризмом, марксизмом и т. д. [1. С. 82-84; 2. С. 43]. Общепризнано, что мировоззрение формирует соответствующие философские концепции, оказывающие непосредственное влияние на науку. Однако естественные науки (физика, химия, биология и др.) в меньшей степени зависят от мировоззрения, чем науки гуманитарные, и обязательно стараются отыскать эмпирические доказательства своей правоты. К научному знанию необходимо прилагать пояснительные структуры в виде доказательств, так как сама по себе наука, за исключением аксиом, не обладает способностью к автоматической самоорганизации [3. С. 49]. Деятельность людей в сфере естественных наук предполагает добывание и организацию взаимодействующих между собой знаний и их стандартизацию, как, впрочем, и любая другая совокупность элементов окружающего мира, с точки зрения человека, невозможна без стандартизации. Стандарт (от англ. Standard - норма, образец, мерило) в широком смысле слова - это образец (эталон, модель), который принимается за общепринятый и исходный для сопоставления с ним других объектов. О наборе признаков или параметров стандарта в науке можно договориться, выстраивая общепризнанную конвенцию, обязательную для научного сообщества. Стандартизация предполагает как установление, так и применение общепринятых правил при участии всех заинтересованных сторон с целью упорядочения деятельности исследователей в определённой области науки. В научном сообществе, как правило, существует система общепризнанных требований и критериев, с помощью которых оценивается значение научного продукта. Поэтому в науке разработаны определенные стандарты деятельности, такие как ответственность за хранение, передачу и использование специализированных знаний. Но в отличие от других сфер деятельности стандартизация в науке обладает рядом противоречий. Так, с одной стороны, стандарты позволяют сформировать единые требования, предъявляемые к членам научного сообщества в конкретной области исследования. С другой стороны, стандартизация обязывает всех участников следовать единому правилу, что подавляет творческую инициативу и лишает свободы выбора как отдельные научные организации, так и конкретных представителей данного научного направления. Известны стандарты научного объяснения - это правила и нормы способов доказательности и обоснования научного знания. В наибольшей степени близок к понятию научного стандарта термин «парадигма». В науке «парадигма» выступает в двух значениях: устойчивый набор определенных стандартов научности (факты, гипотезы, теории) и образец мышления, приобретающий в научном сообществе характер традиции (по Т. Куну). В учебном процессе студенты легко запоминают следующую формулировку авторов этой статьи: «Парадигма - это основополагающие представления о чем-либо». Однако, когда вопрос касается оценки результатов текущих или не устоявшихся научных исследований до того, как они приобрели статус «парадигмы», возникают немалые сложности. Это вызвано тем, что порой результаты исследований не являются каким-либо окончательным продуктом, а выливаются в научные гипотезы, которые одни представители науки восторженно называют «теорией», а другие продолжают утверждать, что это не более чем «гипотеза». Ещё знаменитый поэт, философ и естествоиспытатель, И.В. Гёте писал: «Теория сама по себе ни к чему, она полезна лишь поскольку она даёт нам веру в связь явлений» [4. С. 178]. А известный представитель немецкой классической философии И.Г. Фихте задавался вопросом: «Неужели за две тысячи лет философы не установили ни одного положения, которое они могли бы отныне и впредь принимать у собратьев по науке без дальнейшего доказательства?» [5. С. 524]. Такие попытки, конечно, предпринимались неоднократно. Пример тому - становление эпохи позитивизма, пытавшейся отмести из науки всё, что не поддавалось проверке, а также постпозитивизма, представители которого (К. Поппер, Т. Кун, С. Тулмин, И. Лакатос, М. Полани и др.) предлагали свои критерии научности теорий, но так и не пришли к единому мнению. Более того, они считали возможным обвинять друг друга в иррационализме, скептицизме, отсутствии логики и т.п. И это не «темные дедушки и бабушки на завалинках», а мировые светила современной «философии науки»! О противоречиях, возникающих в их мировоззрении, писал известный отечественный философ В.Н. Порус: «Для И. Лакатоса - «рыцаря критического рационализма» - позиции С. Тулмина и Т. Куна, а также М. Полани были неразличимы в одном важнейшем отношении: они все представлялись ему наступлением иррационализма в философии науки. Это обескуражило Тулмина, которому именно различие его взглядов с концепцией Куна казалось существенным: ведь он настаивал на том, что «никакое концептуальное изменение в науке не бывает абсолютным», и смена одних понятийных систем другими «происходит на достаточно устойчивых основаниях» [6. С. 233]. Кроме того, делались попытки стандартизации научных теорий с позиций норм и ценностей. Однако, как отмечал другой известный отечественный философ, специалист в области теории познания и философии науки, И.Т. Касавин, «идея изменчивости нормативной структуры познания заслонила в современном западном методологическом сознании необходимость анализа познавательных норм» [7. С. 128]. В рамках отдельных естественных наук: физики, химии, геологии, метеорологии существует большое количество общепризнанных стандартов. Сложность стандартизации в биологии заключается в изменчивости живых организмов, а также в изменении окружающей их среды. Живые организмы непрерывно взаимодействуют и друг с другом, и с окружающей средой, что хорошо изучено авторами статьи, на протяжении последних 50 лет, на примере такой зооантропонозной инфекции, как бешенство [8-12 и др.]. Любая состоявшаяся наука имеет свой объект, предмет и методы исследования. Предмет науки отвечает на вопрос «что» этой наукой изучается. В биологии большинство исследований начинается с выделения и идентификации какого-либо объекта. Далее следует процедура классифицирования, необходимая для дальнейшего изучения нового объекта. Акт классифицирования имеет форму интерпретации результатов исследования, которая на завершающем этапе представляет уже целостную систему. В биологической науке стандартом может являться клетка как мельчайшая структурная единица живого организма. К стандартам относятся и понятия: вид, отряд, класс и т. д., где за основу взяты морфологические, и генетические характеристики данного таксона. В качестве стандартов могут быть взяты физиологические показатели, такие как температура тела, кровяное давление, работа зрительного и слухового анализатора и т. д. Все вышеперечисленные показатели могут быть использованы в качестве стандартов, поскольку они являются объективной реальностью и либо наблюдаются исследователями в настоящее время, либо наблюдались в прошлом. Если же явление объективно не наблюдается или непосредственно не наблюдалось, то показатели приходилось конструировать искусственно, опираясь на существующую в каждый период времени парадигму. В биологии это самозарождение Аристотеля, переход микроэволюционных изменений в макроэволюционные, синергетика как самоорганизация живого с понижением энтропии и т д. Недоказуемость этих явлений поддерживалась только усилиями существующих парадигм. Еще более сомнительными являлись попытки выдвижения на роль стандарта некой теории, созданной на основе комбинации фактов и артефактов либо на чистых умозрительных конструкциях. В астрономии роль такого стандарта отводилась теории Птолемея, потом Коперника, сейчас - Большого взрыва и др. В Новое Время механика Ньютона ложилась в основу объяснений всех биологических и социальных явлений. В XIII-XX веках такими стандартами в области биологической науки были объявлены теории: преформизма (Ш. Бонне), материалистической эволюции (Ч. Дарвина), биохимической эволюции (А.И. Опарина - Дж. Холдейна), «мичуринской биологии» (Т.Д. Лысенко) синтетической теории эволюции (дарвинизм + генетика). Несколько в стороне, но уже возможно на подходе к парадигме находятся «номогенез» Л.С. Берга как закономерный характер изменчивости и «теория прерывистого равновесия» Н. Элдриджа и С. Гулда как современный апофеоз многообразных гипотез сальтационизма - «скачкообразной эволюции». В смене этих стандартов вроде бы и нет ничего плохого, если бы все эти «стандарты», каждый в свое время, не объявлялись истиной в последней инстанции, а их непризнание не клеймилось бы в научном и учебном процессах в лучшем случае печатями невежества или мракобесия, в худшем - административными и уголовными преследованиями. Примером таких непрерывных изменений стандартов в биологии служат изменения во взглядах на происхождение и развитие жизни и человека. В этих исследованиях под новый стандарт подводится каждый «только что обнаруженный» ископаемый скелет животного или «предка» человека, любое отклонение от нормального эмбрионального развития. Такие находки сразу нарекаются «научными терминами»: «живой свидетель» или «живая модель» эволюции или на крайний случай «боковая ветвь эволюции». В биологии предпринимались неоднократные попытки идеализации теорий, которые предлагалось использовать в качестве стандарта. Новый стандарт зачастую объявлялся высшей идеальной ценностью научного исследования. Стандарт в некотором роде оказывался созвучным с понятием идеала. По нашему мнению, идеализированный объект в принципе не может ни объявляться, ни являться стандартом, поскольку, хотя он и опирается на формальную систему, реально мало что объясняет (закон Харди - Вайнберга в генетике). И уж тем более стандартом не могут являться некие умозрительные конструкции, являющиеся плодом идеализированного воображения. К ним, по мнению авторов, относятся биогенетический закон Мюллера - Геккеля, теория Опарина - Холдейна, экстраполяция хорошо доказанных Дарвином микроэволюционных исследований на процессы макроэволюции, теория филэмбриогенеза А.Н. Северцева. Все эти законы (стандарты) были объявлены в свое время парадигмами, но без объективных доказательств их правоты. Закон Мюллера - Геккеля оказался фальсификацией. Остальные теории, да и долгое время этот закон, были объявлены «истиной» в учебных программах СССР благодаря словесным (семантическим) заверениям их титулованных авторов, что именно эти явления и есть объективная реальность. Такие «семантические доказательства» не фиксировали процесс изменения окружающего мира, а лишь предполагали их существование. Достаточно было семантически обозначить ненаблюдаемое и реально маловероятное явление (ароморфоз, архаллаксис, тахителия и т. д.) и оно начало «существовать» [13. С. 70; 14. С. 51]. По мнению авторов, именно на такие и им подобные «доказательства» продолжает опираться современная, но уже дополнительно подпираемая «номогенезом» и «сальтационизмом» синтетическая теория эволюции. Эти новые дополнения призваны поддержать ненаблюдаемый, а следовательно, и недоказуемый переход микроэволюционных изменений в макроэволюционные. К тому, что прогнозируемость эволюции и вероятность её скачкообразного характера уже пора включать в постулаты синтетической теории эволюции, призывает крупный отечественный эволюционист Н.Н. Воронцов [15. С. 392, 393]. И хотя К. Поппер писал, что пришел к заключению, о том, что дарвинизм - «возможный концептуальный каркас для проверяемых научных теорий», тем не менее непонятно, каким образом дарвинизм может служить таковым, если сам он, по Попперу, - «не проверяемая научная теория, а метафизическая исследовательская программа» [16]. Несмотря на упорные старания позитивистов, наука никогда не была интеллектуально изолирована от взаимодействия с другими областями познания, в особенности с философией и теологией. Вера всегда являлась неотъемлемым условием научного поиска. Так, Бас ван Фраассен считал, что «цель науки - давать нам теории, которые эмпирически адекватны, а принятие теории влечет за собой веру только в то, что она эмпирически адекватна» [17. С. 12]. По мнению К. Ясперса, философия без веры может «влачить жалкое существование как служанка науки». При этом он подчеркивал, что «веру никоим образом не следует воспринимать как нечто иррациональное, поскольку признаком философской веры служит всегда то, что она существует лишь в союзе со знанием» [18]. Следовательно, вера также может выступать в качестве стандарта. Убеждение в правильности той или иной гипотезы или положения заставляет изобретать и формулировать языковую основу данного убеждения. Авторы статьи, анализируя многообразные эволюционные гипотезы XYII-XXI веков, предложили свой комплексный, научно-апологетический подход к теории эволюции. Они выдвинули эволюционную гипотезу «креационно-сальтационный преформизм». Содержание этой гипотезы излагалось с 2003 года в публикации ВАК [19. С. 59] и в двух монографиях [13. С. 114; 20. С. 99-104]. Никаких неизвестных до них умозаключений авторы не предлагали. Они далеко не первые воссоединили взгляды на эволюцию креационной и материалистической парадигм. Соглашаясь с креационизмом, объединили представления всех мировых религий с аналогичными взглядами таких ученых-естественников-креационистов, как: Джон Рей, Блез Паскаль, Вильгельм Лейбниц, Карл Линней, М.В. Ломоносов, П.С. Паллас, Ж.Б. Ламарк, Жорж Кювье, К.М. Бэр, Г. Мендель, Генри Осборн, В.Ф. Войно-Ясенецкий (св. Лука), Френсис Коллинз, свои собственные представления и взгляды многих других ученых. Включив в свою гипотезу понятие преформизм (развитие предсуществующих генетических задатков), авторы солидаризовались с современными взглядами на генетически непрерывно видоизменяющуюся сущность жизни в рамках своей генетической информации. Изложение этих взглядов и исследований известно с XVII века и продолжается в настоящее время: Мэтью Хейл, Джон Рей, Вильгельм Лейбниц, Альбрехт Галлер, Шарль Бонне, Грегор Мендель, Уильям Бэтсон, Томас Морган, Л.С. Берг, Эдвард Тейтем, Джордж Бидл, Джеймс Уотсон и др. Включив в свою гипотезу понятие сальтационизм (быстрые эволюционные, скачкообразные изменения), авторы, помимо своих исследований, опирались на таких крупнейших исследователей теории эволюции, как Хьюго Мари де Фриз, С.И. Коржинский, Отто Шиндевольф, Рихард Гольдшмидт, Нильс Элдридж и Стивен Гулд, Л.И. Корочкин, В.И. Назаров. Солидаризуясь со взглядами всех вышеупомянутых исследователей в области естественных наук, представителей как материалистических, так и религиозных парадигм, авторы предлагают такие постулаты своей гипотезы креационно-сальтационного преформизма: 1. Организмы созданы Богом актами, обозначенными в 1 главе Библии: «бара» (творить с использованием неизвестных науке XXI века законов - это, по Аристотелю, метафизика) и «аса» (создавать из существующих химических элементов с использованием также неизвестных сегодня науке метафизических законов) [21. Быт. гл. 1 ст.1, 7, 16, 21, 25, 26, 27, 31]. Акт «йецер» употребляется в Библии, когда земля и вода по повелению Бога производят растения и животных (явление это считается вполне научным, но никогда в природе не наблюдалось и человеком не осуществлялось, следовательно, тоже базируется на неизвестных законах мироздания) [21. Быт. гл. 1 ст. 12, 20, 24]. Поскольку человек - «образ и подобие Божие» [21. Быт. гл. 1 ст. 26, 27; гл. 5. ст. 1], то какие-то из этих законов могут быть людям в будущем открыты, но пока находятся за пределами науки, по Аристотелю метафизичны. Это креационизм. 2. Организмы созданы с огромным запасом генетической информации, одним из примеров которой служит выведение человеком от волка 400 пород собак. Здесь речь пойдет о развитии предсуществующих генетических задатков. Это преформизм. 3. Переход одних групп организмов в другие происходит скачками, в рамках генетической информации, путем быстрого (скачкообразного) развертывания этой информации под влиянием изменений среды как внешней («катастрофизм» Шарль Бонне и Жорж Кювье, В.А. Красилова и др.), так и внутренней («ортогенез» В. Хакке, Т. Эймера, номогенез Л.С. Берга и др.). Это сальтационизм. Однако авторы отдают себе отчет в том, что ученые - представители сильного сциентизма, субъективно уверенные в том, что только известная на сегодняшний день наука является доказательной, воспримут в «штыки» объединение в их гипотезе понятий как креационной, так и материалистической парадигм. В адрес авторов посыпятся обвинения в «так называемом научном креационизме» либо даже в мракобесии. Ответом на их возражения может служить отсылка этих коллег, по научному сообществу, к словам госпожи Простаковой из комедии Фонвизина «Недоросль»: «Конечно, все вздор, чего не знает мой Митрофанушка» и ответ Скородума: «В человеческом невежестве весьма утешительно считать все то за вздор, чего не знаешь» [22. С. 114-115]. Дополнительно предлагается ознакомиться с введенным авторами понятием «душевные органы чувств», указывающим на наличие трансцендентного мира [2. C. 42-46; 23. C. 36-53]. Авторы, имеющие общий научно-педагогический стаж 90 лет и обнародовавшие более 750 научных и научно-апологетических публикаций, прекрасно понимают, что, когда та или иная вера насаждается принудительно, это служит серьезным препятствием для развития науки. Примером может служить угнетаемое положение науки - формальной генетики в СССР в эпоху И.В. Сталина и Н.С. Хрущева [24. С. 88]. Искусственно насаждаемые стандарты научного поиска, требования рассматривать все научные постулаты с позиций диалектического материализма отодвинули в СССР развитие такой биологической науки, как генетика, на несколько десятилетий назад. Но поскольку авторы своими исследованиями, на протяжении полувека, убедительно доказали свою причастность к «биологическому научному сообществу», то они уверенно отрицают ложное утверждение на счет того, что «эволюционный», да и «научный» креационизм якобы отвергается «научным сообществом» как псевдонаука. Оппонентам напоминают, что религия - это парадигма, признаваемая, в отличие от парадигмы атеизма, большинством населения Земли [2. С. 44]. Напоминают также и о том, что задачами научного креационизма являются не выдуманные Интернетом обвинения, а анализ современных научных исследований в физике, астрономии и биологии, подтверждающих правоту Священного Писания. Таким образом мы сталкиваемся с размытостью понятия стандарт в области биологических наук, поскольку он, как и термин «доказательство», образует довольно расплывчатую совокупность понятий [14. С. 52]. Основная проблема современной науки (мы не имеем в виду научные технологии) заключается в том, что она, как и прежде, продолжает находиться в системе догм, подчиняться авторитетам (Аристотель, Птолемей, Дарвин, Лысенко и др.). «И роль фактов здесь подчиненная. Они зачастую просто подгоняются под теоретическую модель» [25. С. 138]. В заключение закономерно возникает вопрос: если понятие стандарта в биологии так и не найдено к настоящему времени, то нужно ли искать его вообще? Часть ученых приходят к закономерному выводу, что в естественных науках, чтобы получить новые и значимые научные результаты, необходима «наука с чистого листа». «В физике необходимы переход от частных законов к общим законам мироздания, новые взгляды на пространство и время, изучение законов микро-, макро- и мегамира в единстве, в биологии - дополнительно к описанию и препарированию природы и существующих в ней организмов с целью выявления неких закономерностей, необходим переход к изучению сущности жизни и возможности как сохранения этой жизни, так и природы в целом» [25. С. 134]. Авторы несколько раз в своих публикациях излагали взгляды на то, что эмпирические законы и теории фиксируют факты, но ничего не объясняют. Теоретические законы пытаются многое объяснить, но мало что доказывают [13. С. 54; 26. С. 88]. Поэтому философия науки, анализируя понятия о научных стандартах, призвана помочь избавиться от традиционализма, поскольку сама философия в принципе не обязана руководствоваться наработками предшественников и может мыслить в любом, подтверждаемом научным потенциалом исследователей, оригинальном направлении.Об авторах
Геннадий Николаевич Сидоров
Омский государственный педагогический университет; Омский научно-исследовательский институт природно-очаговых инфекций; Омская духовная семинария Омской епархии русской православной церкви
Email: vyou@yandex.ru
доктор биологических наук, профессор кафедры биологии и биологического образования Омского государственного педагогического университета, профессор кафедры гуманитарных дисциплин Омской духовной семинарии Омской епархии РПЦ.
Российская Федерация, 644099, Омск, набережная Тухачевского, д. 14; Российская Федерация, 644080, Омск, проспект Мира, д. 7; Российская Федерация, 644024, Омск, ул. Лермонтова, д. 56Ольга Борисовна Шустова
Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина
Автор, ответственный за переписку.
Email: vyou@yandex.ru
кандидат философских наук, доцент кафедры философии, истории, экономической теории и права Омского государственного аграрного университета имени П.А. Столыпина.
Российская Федерация, 644008, Омск, Институтская площадь, д. 1Список литературы
- Шустова О. Б., Сидоров Г. Н. Человек как системообразующий фактор научного познания // Омский научный вестник. 2015. № 1 (135). С. 82-84.
- Сидоров Г. Н., Шустова О. Б. Информация и интуиция в науке с позиций рациональности и трансцендентности // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. 2019. № 2 (23). С. 42-46.
- Шустова О. Б., Сидоров Г. Н. Проблема доказательства в эмпирическом и теоретическом знании // Метафизика. 2022. № 3 (45). С. 46-53.
- Лихтенштадт В. О. Учение Вольфганга Гете о трансформизме // Дарвинизм: хрестоматия Т. 1 / сост. В. А. Алексеев. М.: Изд-во Московского университета, 1951. 848 с.
- Фихте И. Г. Сочинения: в 2 т. Т. 1 / сост. и прим. Вл. Волжского. СПб.: Мифрил, 1993. 687 с.
- Порус В. Н. Цена «гибкой» рациональности (о философии науки Ст. Тулмина) // Философия науки. Вып. 5. М.: ИФ РАН, 1999. С. 228-245.
- Касавин И. Т. Познание в мире традиций. М.: Наука, 1990. 204 с.
- Сидоров Г. Н., Савицкий В. П., Ботвинкин А. Д. Ландшафтное распределение хищных млекопитающих семейства собачьих (Canidae) как фактор формирования ареала вируса бешенства на юго-востоке СССР // Зоологический журнал. 1983. Т. 62, № 5. С. 761-770.
- Сидоров Г. Н., Ботвинкин А. Д., Малькова М. Г., Красильников В. Р. Распределение, плотность населения, вероятность биоценотических контактов и степень синантропизации диких собачьих (Canidae) в природных очагах бешенства СССР // Зоологический журнал. 1992. Т. 71, № 4. С. 115-130.
- Сидоров Г. Н., Сидорова Д. Г., Колычев Н. М., Ефимов В. М. Эпизоотический процесс бешенства: роль диких млекопитающих, периодичность // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. 2008. № 12 (192). С. 68-74.
- Сидоров Г. Н., Полещук Е. М., Сидорова Д. Г. Изменение роли млекопитающих в заражении людей бешенством в России за исторически обозримый период в 16-21 веках // Зоологический журнал. 2019. Т. 98, № 4. С. 437-452.
- Сидорова Д. Г., Шустова О. Б., Сидоров Г. Н. Системный подход при изучении экологии природно-очаговых заболеваний на примере рабической инфекции // Вестник Омского государственного аграрного университета. 2016. № 4 (24). С. 253-259.
- Шустова О. Б., Сидоров Г. Н. Традиции рационализма в преодолении кризиса научного познания: монография. Омск: Изд-во ОмГПУ, 2018. 152 с.
- Шустова О. Б., Сидоров Г. Н. Проблема доказательств в эмпирическом и теоретическом знании // Метафизика. 2022. № 3. С. 46-53.
- Воронцов Н. Н. Развитие эволюционных идей в биологии. Москва: КМК, 2004. 432 с.
- Поппер К. Дарвинизм как метафизическая исследовательская программа. URL: http://www.originlife.ru.data/documents (дата обращения: 03.12.2023).
- Fraassen van B. C. The Scientific Image. Oxford: Oxford Univ. Press, 1980. 235 р.
- Ясперс Карл. Понятие философской веры. URL: https://studfile.net/preview/2475673/ page:13/ (дата обращения: 03.12.2023).
- Сидоров Г. Н., Шустова О. Б., Разумов В. И. Наука и философия о развитии жизни на Земле // Философия науки. Новосибирск. 2003. № 4 (19). C. 36-63.
- Шустова О. Б., Сидоров Г. Н. Эволюционизм и креационизм: наука или философия?: монография. Омск: Изд-во ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2009. 200 с.
- Библия. Книги Священного писания Ветхого и Нового Завета. М.: Московская патриархия, 1979. 1371 с.
- Фонвизин Д. И. Бригадир. Недоросль. М.: Гос. изд-во «Художественная литература», 1961. 127 с.
- Сидоров Г. Н., Шустова О. Б. Об основном вопросе философии, об информации и о разделении ученых и философов на эмпириков, идеалистов, богословов, креационистов, агностиков и атеистов // Вестник Омской Православной Духовной семинарии. 2018. Вып. 1 (4). С. 36-53.
- Шустова О. Б., Сидоров Г. Н. Философская категория веры в научном познании // Омский научный вестник. 2014. № 2 (126). С. 87-89.
- Гнедаш Г. Н., Гнедаш Д. В., Иванов Д. А. Научные традиции или низвержение авторитетов: что выбирает мир? // Метафизика. 2020. № 1 (35). С. 133-140.
- Шустова О. Б., Сидоров Г. Н. Законы природы и научные объяснения как объект гносеологического анализа // Омский научный вестник. 2014. № 2 (126). С. 87-89.
Дополнительные файлы