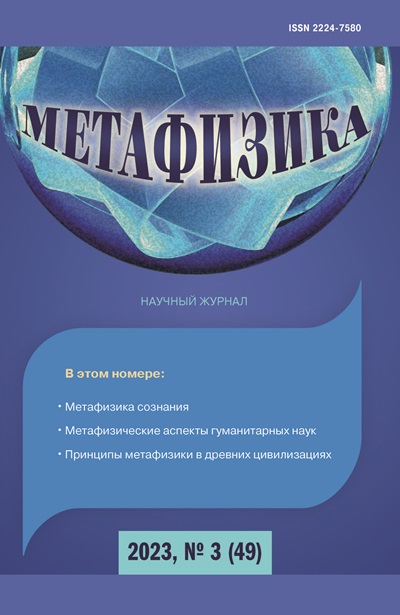РУССКОЕ СЛОВО: ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
- Авторы: Владимирова Т.Е.1
-
Учреждения:
- Российский университет дружбы народов
- Выпуск: № 3 (2023)
- Страницы: 67-79
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.rudn.ru/metaphysics/article/view/37806
- DOI: https://doi.org/10.22363/2224-7580-2023-3-67-79
- EDN: https://elibrary.ru/BCCEYR
- ID: 37806
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Статья посвящена раскрытию феноменологического потенциала слова, имеющего индоевропейские корни, и его рассмотрению в языке русской традиционной духовной культуры. Исследовательский интерес к глубинной, сущностной семантике слова-концепта позволил представить его как «архетип культуры» (Г. Г. Шпет) и как «живой» феномен русской духовной традиции, восстанавливающей нашу культурную память и наше национальное самосознание.
Ключевые слова
Полный текст
Введение Язык и сформировавшийся на его основе образ мира изначально включали в себя отношение к Высшим началам и, таким образом, выполняли функцию основного регулятора бытия. Позднее пришло понимание самобытности родного языка и тех духовных феноменов, которые были заложены предшествующими поколениями. Поэтому «мы не только говорим на каком-либо языке, мы думаем, скользя по уже проложенной колее, на которую ставит нас языковая судьба» [1. С. 534]. Так, вместе с лексико-грамматическими, фонетическими, ритмико-интонационными и стилистическими средствами «человек говорящий» неизбежно присваивает «языковую судьбу», которая предопределяет само течение мысли, активизируя в сознании сущностные основания бытия и идеальные представления, унаследованные с языком. Поэтому «историю грамматического строя и логического мышления мы воспринимаем не как отдалённое прошлое, навсегда превзойдённое и безвозвратно ушедшее, но как элементы, вошедшие в современную культуру» [2. С. 407]. И в этом, как представляется, залог восстановления русской культурной традиции и сущностных оснований бытия. При таком понимании естественно возникает мысль о субъектной природе и духовных императивах родного языка, которые направляют и подчиняют себе человека. «Сказанное слово вторгается в его психику, - писал П. А. Флоренский, - и возбуждает здесь, этим напором воли целого народа, давление, вынуждающее пережить, перечувствовать и продумывать последовательные слои семемы слова, устремляясь вниманием в намечаемую ею сторону и производя соответственное волеизъявление» [3. С. 255]. В дальнейшем особую значимость приобретают уроки родного языка, призванные раскрыть тот духовный опыт, который накоплен языком и культурой, и передать его подрастающему поколению. «Люди учатся Знанию, люди учатся Памяти, люди учатся Совести. Это три предмета, которые необходимы в любой Школе и которые вобрало в себя искусство. А искусство это по сути своей Книга Памяти и Совести. Нам надо только научиться читать эту Книгу» (Ю.М. Лотман) [4. С. 462]. Однако школьная программа по русскому языку не ориентирована на изучение культурно-исторического и духовного потенциала Слов-концептов, которым принадлежит особая роль в русской словесности. Не в этом ли заключается одна из причин ограниченности молодежного речевого поведения рамками прагматических координат «я-ты-здесь-сейчас» и характерным для него использованием стилистически сниженной лексики? И как ни вспомнить сегодня горестное размышление П.А. Флоренского: «Мы не умеем пользоваться несметными сокровищами, собранными поколениями, не умеем претворить в свою плоть и кровь концентрированного творчества многих веков - да, не умеем, потому что позабыли, как подступиться к заколдованному кладу, который мы видим, но который не дается в руки» [5. С. 458]. О пренебрежении историей языка и опытом бытия его носителей шла речь и в инаугурационной лекции К. Леви-Стросса. В частности, он говорил о недопустимости «довольствоваться разжиженной социологией, где феномены оторваны от своей основы», поскольку при этом неизбежно «забывают о людях, в мышлении которых эти отношения устанавливаются, пренебрегают их конкретной культурой и уже не знают, ни откуда, ни кто они» [6. С. 367]. 1. Слово как объект изучения гуманитарных наук Рассматривая Слово как актуальную проблему гуманитаристики, приведем начальный фрагмент из «Введения» Н. Д. Арутюновой в сборнике «Логический анализ языка: образ человека в языке и культуре»: «Если Бог создал человека, то человек создал язык - величайшее свое творение. Если Бог запечатлел свой образ в человеке, то человек запечатлел свой образ в языке. Он отразил в языке все, что узнал о себе и захотел сообщить другому» [7. С. 3]. Куда же ведет нас путеводная нить русского языка? И какие заветные смыслы входят в наше сознание как залог прикосновения к тайнам бытия? Попробуем разобраться. Как известно, «живое вообще трудно поддается концептуализации» [8. С. 15]. Тем не менее накопленный опыт шаг за шагом приближает к осмыслению Слова в контексте бытия русской языковой личности. В этой связи вспомним Л.В. Щербу, который писал: «...если мы хотим изучать жизнь, - а язык есть кусочек жизни людей, - то это не может быть просто и схематично» [9. С. 98]. О трудностях, с которыми сталкивается лингвистика при изучении структурно-смысловых закономерностей языка, речи и дискурса, писал и В.А. Звягинцев: «Даже тогда, когда язык как будто удается подчинить жестким правилам формального устава, язык в действительности ускользает от своего укротителя, оставляя в его руках лишь внешнюю оболочку, структуру. Главный же свой секрет он прячет в подоснову, в далекие глубины, подвергнуть которые формальной процедуре так же трудно, как и мыслительные процессы...» [10. С. 301]. Сознавая трудоемкость стоящей перед лингвистами задачи, обратимся к античной философии, раскрывшей процессуальную природу речевой деятельности и ее содержательно-смысловую направленность. Здесь мы имеем в виду триаду Аристотеля <dynamis-energeia-entelecheia> [11. С. 232-233], где dynamis - это возникшая интенция, energeia - собственно речевая деятельность, а entelecheia - представление о ее совершенном исполнении [12. С. 62]. Таким образом, Слово в высказывании несет в себе энергийную заряженность возникшей интенции, которая актуализируется в речи и выражается в стремлении приблизиться к искомому совершенству. Но своими корнями Слово уходит в прошлое, привнося дополнительные «приращения смысла». Поэтому его совокупный энергийный посыл всегда вбирает в себя настоящее и прошлое, но он обращен в будущее и тем самым приближает его. Что же касается бытия, то Платон сравнивал его с крылатой колесницей, где возница (рациональное начало) управляет двумя конями, которые олицетворяют эмоциональное и волевое начала. Известна и платоновская «порождающая модель» <paradeigma-de’mioyrgos-kosmos>, которая представляет собой триединство ‘идеи’ (плана, прообраза), ‘создателя’ и ‘мира, построенного согласно прообразу’ [13. С. 601]. Но открытие целостного единства сознания и бытия принадлежит Пармениду, который задавался вопросом: «Мыслить и быть не одно ли и то же?» [14]. Примечательно, что современная психология, восходящая к античной холистической традиции, подтвердила целостную природу «единого континуума бытия-сознания» [15. С. 281]. А В. П. Зинченко раскрыл триадную структуру сознания», выделив в нем рефлексивную, бытийную (экзистенциальную) и духовную составляющие [16. С. 113]. Таким образом, Слово «связано и с воспринимаемым миром, и с волей человека» [17. С. 20], и, добавим, с идеальным прообразом бытия, присутствующим в сознании. При этом в нем различимы характерные черты языковой личности, отголоски пройденного ею пути, а также сущностные представления об искомом совершенстве. Ведь «вне духовного содержания любое дело - это полдела» [18. С. 199]. Античная методология получила дальнейшее развитие в «системе предустановленной гармонии», исходящей от Бога (Г.В. Лейбниц), в «совокупной духовной энергии народа» (В.Ф. Гумбольдт), в «идеях чистой феноменологии и феноменологической философии» (Э. Гуссерль) и в «выяснении сущности человеческого бытия» (М. Хайдеггер). А в русской традиции к ней близки концепции «духовной вертикали» (В.С. Соловьев), «духосферы» (П.А. Флоренский), «энтелехии, как духа предметного бытия» (Г.Г. Шпет) и «бытия - как имени, имеющего энергийно-символическую и личностную природу» (А.Ф. Лосев), а также «мысль о Боге в присутствии Бога» (М.М. Бахтин). В этом контексте особый исследовательский интерес вызывает статья М.М. Бахтина «К философским основам гуманитарных наук», где «вся полнота слова» и его сущностная семантика раскрываются в контексте целого высказывания. Согласно автору, Слово в речи также предстает как «живое триединство», вбирающее в себя говорящего, адресата и «нададресата», который выступает в функции третейского судьи. В понимании М.М. Бахтина это Бог, абсолютная истина, суд беспристрастной человеческой совести, народ, суд истории и наука [19. С. 7]. Разумеется, на современном этапе «субъектная многослойность бытия» (М.М. Бахтин) фиксирует не только ценностные понятия, представления и идеалы, унаследованные с языком. Но тот факт, что они остаются живыми в нашем сознании, речи и текстах, становится зароком восстановления их духовной и культурно-исторической значимости. Ведь, как писал Э. Бенвенист, «язык создает воображаемую реальность, одушевляет неодушевленное, позволяет видеть то, что еще невозможно, восстанавливает то, что исчезло». [20. С. 27]. Более того, присутствие ценностно-смысловых доминант в русском культурном пространстве привносит в него то особое духовное измерение, благодаря которому «над всеми понятиями, не всегда явно, доминирует понятие сущности». Но можно ли раскрыть эту неявную и поэтому трудно определяемую сущность? Возвращаясь к Ю.С. Степанову, воспользуемся его подсказкой: «Сущность языка, - в той мере, в какой она вообще может открыться, - открывается не инструментальному, а философскому взгляду» [21. С. 28]. Следовательно, первостепенное значение здесь приобретает философская антропология как фундаментальная «наука о сущности и сущностной структуре человека» [22. С. 131], которая заявила о себе в 1920-е годы. А позднее в работах Э. Гуссерля сформировалась феноменология как наука о чистых феноменах» (цит. по: [23. С. 175]), которая изучает сущности и мир идеального бытия, составляющие ценностное ядро сознания и жизненного опыта человека. Однако потребовалось время, чтобы интерес к «живому слову живого человека» (М.М. Бахтин) привел сначала к онтологии, а затем к онтологическому и экзистенциальному «поворотам» гуманитарных наук [24. С. 93]. Феноменологическая сущность слова привлекла внимание исследователей позднее, когда стремление «понять языковую стихию в ее внутреннем замысле» [25. С. 32] вернуло лингвистов в русло феноменологии. Вместе с тем направленность на раскрытие глубинной, сущностной семантики Слова объединяет едва ли не все работы, посвященные концептам. Среди них отметим публикации Н.Ф. Алефиренко, Н.Д. Арутюновой, Т.И. Вендиной, В.В. Виноградова, С.Г. Воркачева, В.И. Карасика, М.Л. Ковшовой, В.В. Колесова, В.В. Красных, О.В. Ломакиной, В.А. Масловой, М.В. Пименовой, В.И. Постоваловой, Л.В. Савельевой, В.П. Синячкина, Ю.С. Степанова, И.А. Стернина, З.К. Тарланова, в которых фактически представлена феноменология Слова. Так, исследовательский интерес к концептам способствовал выявлению в языковом бытии «чистых» смыслов и идеальных представлений, а в Слове - сущностных значений, включая его образно-смысловую и энергийную составляющие. В итоге благодаря феноменологической призме анализа лингвистика «внешних форм» (В.В. Виноградов) вошла в мир ментально-рефлексивного и образно-смыслового осмысления Слова. В свою очередь, развитие лингвистики «внутренних форм» (В.В. Виноградов) способствовало преодолению «лингвозависимости, при которой слово есть то, что оно обозначает, а не то, что в нем или через него воспринимается языковой личностью» [26. С. 56]. 2. Слово-концепт «отец»: антропологический, этимологический, исторический и этнолингвокультурный аспекты Антропологический аспект. Приступая к анализу языковой концептуализации родства, отметим следующий факт. В дородовую эпоху с типичными для нее полигамными отношениями не было понимания физиологических причин рождения человека и кровные связи не осознавались. Приведем мнения исследователей, в совокупности раскрывающие взгляд на эту проблему. 1. «Родственные названия „брат“, „сестра“, „мать“, „отец“ имели значение не кровного родства, но принадлежности к общему тотему, к общему тем самым коллективу». Поэтому «людской коллектив в силу тотемистических представлений носит имя тотема, и это и есть имя племени, клана, имя единично-множественное» [27. С. 31]. 2. «Пока не были ясны физиологические причины зачатия, люди думали, что ребенка просто помещали в женское лоно». При этом он мог быть «зародышем, который до того жил в пещерах, расщелинах, колодцах, деревьях и тому подобных местах, или же семечком, или даже „душой предка“. Нас интересует лишь представление о том, что зачатие не связывалось с отцом, но что ребенок на какой-то стадии своего развития оказывался в животе женщины в результате ее контакта с каким-либо природным предметом или животным» [28. С. 232-233]. 3. Архаичное мышление, не усматривая связи между зачатием и рождением, наделяло женщину, по аналогии с плодоносящей Землей, способностью к произвольному зачатию и рождению потомства [29. С. 14]. 4. «Наивность „первобытных“ людей, как правило, преувеличивалась в старой этнографической науке - отец ребенка был известен, но символические связи будущего ребенка имели не меньшее значение, особенно когда „знак“ подавало тотемистическое животное (значимой была встреча с ним) или он исходил из сакрального центра племенной территории, где, по верованиям австралийцев и других народов, обитали души новорожденных младенцев» [30]. Как следствие, в древнейших номинациях отца и матери «овнешнены» мистические образы сознания, игнорировавшие логические и причинно-следственные связи, что характерно для первобытных общностей. Вместе с тем архаичные термины родства полностью соответствуют дуальному принципу мировосприятия, основанному на противопоставлении сакрального и профанного, сверхъестественного и естественного, Хаоса и гармонии, мужского и женского, жизни и смерти. Рассматривая концепт «отец» как «архетип культуры» (Г.Г. Шпет), попытаемся раскрыть семантику индоевропейских номинаций отцовства и выявить те «чистые» смыслы и сущностные значения, которые сформировали их энергийно-смысловое содержание. Этимологический аспект. Об индоевропейском языке, существовавшем в IV веке до н. э., известно немного, но в каждом из обособившихся от него языков этимологи выделяют его первооснову. «В индоевропейских языках, - писал Э. Бенвенист, - мы обнаруживаем образцовую модель отношений соответствия, которые позволяют выделить семью языков и реконструировать ее предыдущие состояния вплоть до первоначального единства» [31. С. 26]. Предпринимаемый анализ Слова-концепта «отец», который принадлежит древнейшему пласту индоевропейского языка, направлен на раскрытие глубинных смыслов его начальной семантики. При этом открывается перспектива выявить его «энергийно-смысловой потенциал» и «энергийно-смысловую подвижность» (А.Ф. Лосев) в русской культуре. Русское слово отец (др.-русск. отьць) возникло в результате череды преобразований. Как и другие славянские аналоги[5], данный термин был производным от праславянского *otьcь, восходящего в свою очередь к индоевропейскому *ǎtta ‘принадлежащий к родовому классу мужчин-отцов’[6]. Обобщенный характер этого термина вполне понятен. В эпоху матриархата при полигамных отношениях все старшие мужчины большой экзогамной семьи считались отцами и членами фратрии, носящей имя Первопредка-тотема (*Hordhu-), который объединял потомков на основе не кровного, а сакрального родства [31. С. 147]. Таким образом, унаследованные представления о мистическом родстве с тотемом упорядочивали брачные отношения, создавая лучшие условия для выживания родоплеменных общностей. Немаловажной представляется и следующая закономерность. «Первоначально члены рода употребляли термин otьcь как название ближайшего отца, который сам был в сущности ‘отцов’ (att-iko-s), то есть происходил от старшего, общего отца (слав. *otъ, и.-е. *ǎtta)» [29. С. 26]. Поэтому все мужчины по восходящей линии считались отцами не только сыновей, но внуков и правнуков. Это скрепляло членов одного рода, укореняя в сознании отношение к себе как к части большего целого. Вероятно, лексема отец изначально имела уменьшительное значение (ср. брат → братец) и утвердилась в силу необходимости выделения младшего поколения в классе отцов: *ǎtta →*otьcь → отьць. Но в индоевропейском языке, строго различавшем сферы сакрального и обыденного, был еще один термин *pəter, предназначенный для сакральных ситуаций (Dyeu Рater ‘небо-отец’, Dis-pater ‘отец дня’, а позднее Jupiter ‘бог неба, света и грозы’ и католическое обращение к Богу Pater noster). Тем не менее именно слово *pəter послужило основой для номинации отца в западноевропейских языках[7]. Таким образом, семантика и сфера употребления индоевропейских терминов отца имела принципиальные отличия: *ǎtta - наименование физического лица в повседневной сфере, а *pəter - классификационное понятие для называния «бога-отца» в сакральной сфере. Возможно, к сакральному слову восходит также славянский обыденный термин родства *бaт’a, который имел значение ‘старший брат, отец, дядя, старший мужчина’[8] [32. С. 51]. Что же касается наименования «бога-отца», то в славянской языческой культуре утвердилась иная словообразовательная модель: Белобог, Чернобог, Стрибог, Дажьбог и др. Примечательно, что Э. Бенвенист, анализируя данную ситуацию, писал: «Если в одной части индоевропейского ареала возобладал термин atta, то причина этого, вероятно, кроется в ряде глубоких изменений в религиозных представлениях и в социальной структуре общества. И действительно, там, где употребляется исключительно слово atta, не осталось и следа от древних мифологических представлений, в которых господствовал бог-„отец“» [31. С. 148]. Таким образом, в дуальной «сетке координат» *pəter-*ǎtta были «овнешнены» различные образы сознания, которые создали предпосылки для развития самобытных способов бытия, а в дальнейшем - и становление у наследников индоевропейского языка коллективистической и индивидуалистической направленности культуры. Исторический и этнолингвокультурный аспекты. В ходе великого переселения народов (IV-VII века) прародина славян включала земли от Балтийского до Средиземного моря, от Эльбы до Волги и Днепра. Противостоять славянам Восточная Римская империя не смогла, и в VII веке началось заселение Балкан и Пелопоннеса. Примечательно, что славяне, расселившись на Балканах, упразднили существовавшее в Римской империи право частной собственности на землю и установили традиционное общинное землевладение в соответствии с унаследованными ценностными представлениями. К XI веку территория расселения восточнославянских племен (Киевская Русь) «простиралась от бассейна Вислы на западе до Камы и Печоры на востоке; от Черного моря (устье Днепра) до Белого моря и „Студеного“ моря (Ледовитого океана). Активное продвижение славян, хранивших традиции большой экзогамной семьи, позволило говорить о „мягкой колонизации“ (В. Н. Топоров), возможной при условии определенной близости базовых ценностных представлений и способа бытия коренным племенам. В этой ситуации в праславянском языке, достаточно поздно обособившемся от индоевропейского корня, постепенно начали проступать самобытные черты. Среди них отметим и забвение невостребованной дублетной формы *pəter, которая не отвечала их ценностным представлениям о семейном укладе. В неславянских индоевропейских племенах этнолингвокультурная ситуация складывалась иначе. Растянувшийся на тысячелетие (XV-VI век до н. э.) процесс преобразования диалектов единого индоевропейского языка в самобытные языки сопровождался постепенным снятием табуированных запретов на употребление термина *pəter и, утратив свою сакральную коннотацию, он стал употребляться по отношению к отцу в знак признания его особого статуса, а затем и для обозначения отцовства: *pəter ‘высшее божество’ → pəter familias ‘высший глава семейства’ → pəter ‘отец в физическом смысле’. Огромную роль в усилении патриархатной организации бытия сыграла античная культура, где примат отцовства был закреплен законодательно. Восточнославянский мир, в меньшей степени соприкасавшийся с греко-римской культурой, развивался на фундаменте традиционного семейного уклада с унаследованным почитанием матери. В результате, несмотря на влияние Римской империи с ее культом отца и личностного начала, славяне сохранили семейно-родовые и общинные ценностные ориентиры бытия, на фундаменте которых формировалась коллективистическая культура[9]. Таким образом, наша русскость - итог многовекового пути, в котором историки языка выделяют несколько пластов: индоевропейский (VI тысячелетие до н. э. - середина II тысячелетия до н. э.), праславянский (XVI век до н. э. - VI век н. э.), восточнославянский (VI-IХ века), древнерусский (IX-XIV века) и собственно русский (XIV век - по настоящее время). 3. Феноменология Слова-концепта «отец» в языке русской традиционной духовной культуры Предпринятое рассмотрение праславянской номинации отца как члена большой экзогамной семьи выявило почитание Старшего и сакральный культ Первопредка, который олицетворял вечное единение живых и умерших родичей. После Крещения Руси унаследованные сакральные, семейно-родовые и фратерниальные представления были переосмыслены, но не исчезли по принципу «снятия». В подтверждение сошлемся на вывод известного исследователя древнерусской истории и культуры Б. А. Рыбакова: «Эволюция религиозного сознания древних людей происходила весьма своеобразно - не путем полной смены старых форм и замены их новыми, а путем наслаивания нового на сохраненную старую форму. Благодаря этому в народной памяти, в народном быту, фиксируемом этнографами, сохраняются в том или ином виде (иногда в сильно трансформированном) пережитки всех предшествующих эпох вплоть до каменного века» [33. С. 12]. Таким образом, подобно тому, как патриархатная семья выросла на фундаменте матриархатных ценностных устоев, православные основы бытия утверждались на почве языческих суеверий и мифопоэтических представлений. В итоге это в значительной мере предопределило судьбу русского языка и этику семейного уклада, который впитал в себя архаичные установки, но продолжал развиваться под воздействием Православия. Как следствие, «живое слово таит в себе интимное отношение к предмету и существенное знание его сокровенных глубин» [34. С. 636]. И здесь перед нами возникает вопрос: сохраняются ли в Слове-концепте «отец» и, шире, в народной «культуре души» те сущностные, «чистые феномены», которые в течение многих веков составляли нравственный фундамент наследников русского языка? Еще недавно сама постановка данной проблемы могла бы показаться неправомерной. Но книга Т. И. Вендиной «Антропология диалектного слова» открыла перспективы для изучения сущностной семантики рассматриваемого концепта «в языке традиционной духовной культуры как культурологического феномена» [35. С. 17]. Более того, автор убедительно показала, что «именно диалектный материал, не подвергшийся иноязычным влияниям и сохранивший свою самобытность, должен лежать в основе исследований, направленных на выяснение этнического своеобразия культуры» [35. С. 7]. Что же касается «энергийно-смыслового потенциала» и «энергийно-смысловой подвижности» (А.Ф. Лосев) Слова, то, согласно предпринятому исследованию, носитель русской народной культуры сознает, что «окружающий его мир не сводится лишь к естественному порядку вещей, в нем есть особый смысл и доброта, свое идеальное измерение, свои высшие истины. И это идеальное обладало активным началом в жизнедеятельности человека, оно творило его, участвовало в становлении его личности» [35. С. 601]. Возвращаясь к терминам родства, отметим, что отец чаще всего выступает в качестве главы семейства и является воплощением закона и долга как сущностных основ государственной жизни. Не удивительно, что именно с ним как с представителем рода связаны «вхождение» ребенка в семью и его интеграция в социум [38. С. 572]. Антропологическая призма осмысления языка, избранная Т. И. Вендиной, позволяет продолжить рассмотрение концепта «отец» с феноменологических позиций, опираясь на представленный в книге диалектный материал как объективное свидетельство укорененности духовных основ бытия в языке его носителей. С этой целью приведем полностью группу имен, называющих отца в различных областях России[10], обращая внимание на количественное соотношение в ней нейтральной (1), уменьшительно-ласкательной (2), неодобрительной, презрительной или пренебрежительной (3) лексики: 1) батеня, батко, батюх, батюш, батюшка, батяй, батяка, батяня, папака, папань, папика, папока, папушка, породник ‘отец’, родетель ‘отец’, родильник ‘отец’, родильщик ‘отец’, тата, татой, татуля, татуха, тятька, а также такие характеризующие имена, как богодан ‘отец ребенка, рожденного вне брака’, печальник ‘отец, заступник’, пеханец (< пехтоваться ‘заботиться о ком-л.’); 2) батюня, отечко, папелька, татаня, татка, татонька, таточка, тятенька, тятуля; 3) папуха, батя [35. С. 97]. Стремясь рассмотреть через призму феноменологии семейные устои, характерные для носителей русской духовной традиции, представим самую многочисленную из терминов родства группу имен, называющих мать: мамака, маманя, мамень, мамиза, мамика, мамой, мамца, мамыса, матерь, мати, матика, матина, матиха, матица, матря, приятушка ласк. ‘о матери’ (<приять ‘приласкать’), родельщица, родильщица, родима, родимушка, родитель ‘мать’, роднушка, порода, породителка, грудница ‘кормящая мать’, плодуха ‘многодетная мать’ и др. [35. С. 93-94]. Наряду с идентифицирующими именами матери, традиционно ассоциирующейся с любовью, добротой и ласковым отношением к детям, в книге приводятся также названия с аксиологической окраской, которые подчеркивают ее феноменологически значимые черты. При этом автор отмечает, что подобных имен, в которых выражалась бы любовь, сопричастность и забота по отношению к другим членам малой или большой семьи нет в названиях других родственников: заботница ‘мать невесты в свадебных обрядах’; печальница, печальщица (<печаловать ‘беспокоиться, заботиться, опекать кого-л.’), радушница ‘любящая мать’, доброхотница, ласкательница, ласкашница, ласковитница [35. С. 93-94]. В целом, анализируя имеющийся диалектный материал, Т.И. Вендина обращает внимание на следующий факт. Согласно проведенным историко-этнографическим исследованиям, «патриархальная большая семья не была первоначальной стадией в истории развития общества. Она, как правило, следовала за архаической материнской семьей и предшествовала малой» [36. С. 417]. Следовательно, Слово «отец» не только хранит в себе унаследованную связь с большой экзогамной семьей и воинской доблестью, которая объединяла на основе сакрального родства и укореняла в сознании отношение к себе как части большего целого. «Энергийно-смысловой потенциал» данного концепта вобрал в себя изначальную связь с матерью, которая родила, воспитала и была хранительницей семейного очага и его нравственных устоев. Таковы сущностные основания бытия, которые хранит русское Слово и которые раскрываются при феноменологическом подходе. Действительно, прав был Э. Бенвенист, утверждая, что язык «позволяет видеть то, что еще невозможно, восстанавливает то, что исчезло». Но, думается, прав и В. П. Зинченко, когда писал: «Сознание, при всей своей спонтанности и других замечательных свойствах <…> не обладает способностью самовосстанавливаться. Единственной и надежной помощницей в этом может быть культура, духовность» [38. С. 37]. Подведем итоги. Феноменологическая направленность на раскрытие глубинной, сущностной семантики Слова позволяет представить его, с одной стороны, как «архетип культуры» (Г.Г. Шпет). А с другой - как «живой» феномен русской духовной традиции, восстанавливающей нашу культурную память и наше национальное самосознание, которое унаследовало и сохранило способность к взаимодействию, взаимопониманию и строительству взаимоотношений. В заключение, вспоминая Л.В. Савельеву, примем в качестве напутствия ее добрый наказ: «Русский язык должен быть осознан в его глубинной сути - как историческая память народа и нерукотворный памятник его творческой мысли и вместе с тем как орудие духовного воздействия и воспроизводства самобытной этнической культуры» [39. С. 8].×
Об авторах
Татьяна Евгеньевна Владимирова
Российский университет дружбы народов
Автор, ответственный за переписку.
Email: vyou@yandex.ru
доктор филологических наук, профессор Российская Федерация, 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 10, корп. 3
Дополнительные файлы