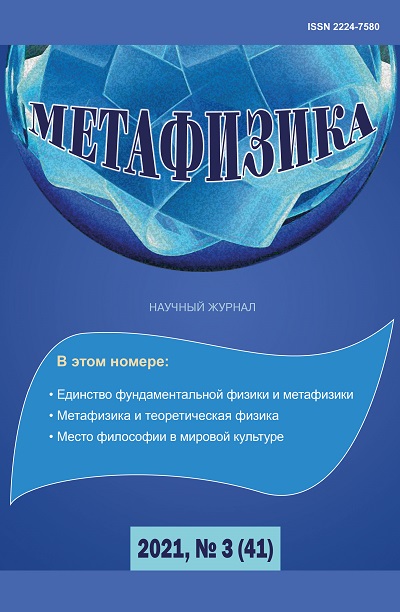ФИЗИКА И ФИЛОСОФСКАЯ ОНТОЛОГИЯ: ФОРМЫ ВНУТРЕННЕГО ЕДИНСТВА
- Авторы: Жаров С.Н.1
-
Учреждения:
- Воронежский государственный университет
- Выпуск: № 3 (2021)
- Страницы: 9-23
- Раздел: ЕДИНСТВО ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ И МЕТАФИЗИКИ
- URL: https://journals.rudn.ru/metaphysics/article/view/29788
- DOI: https://doi.org/10.22363/2224-7580-2021-3-9-23
- ID: 29788
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Показано, что физика и философская онтология в своих основах причастны одному и тому же всеобщему бытию. Однако эти истоки неочевидны для самой физики, поскольку заслонены конструированием теоретических схем. Анализируются способы онтологической интерпретации физики и связанные с ними проблемы.
Ключевые слова
Полный текст
Обращаясь к обозначенной теме, следует различать две внутренне связанные но все-таки различные проблемные перспективы. Первая - это вопрос о трактовках отношения между физикой и философской онтологией, имевших место в истории мысли. Вторая - это вопрос о предметно-онтологическом пересечении этих дисциплин. Очевидно, невозможно обсуждать вторую перспективу без обращения к первой. Однако изучение истории здесь не самоцель, а средство для выявления когнитивных контекстов, обнажающих единство оснований физики и философской онтологии. Последняя также нередко выступала под именем метафизики, воспринимаясь как ее неотъемлемая часть [1. С. 118]. Это отождествление имело место вплоть до Хайдеггера, различавшего онтологию как теорию бытия и метафизику как теорию сущего. I. Осмысление отношений между физикой и философской онтологией В Античности мы видим совпадение физики, метафизики и философской онтологии на уровне истоков рациональной мысли. В начале своего пути греческое мышление использовало не понятия, а смыслообразы. Термин «смыслообраз» в свое время ввел Ф.Х. Кессиди. Это образ, принявший в себя смыслы, позволяющие выполнить роль понятия в схеме рационального мышления (см. [2]). У досократиков смыслообраз выражал немифологические основы мира, однако он не мог обеспечить однозначную фокусировку мысли. Например, «в гераклитовском… смыслообразе имеется явное и скрытое, символическое и несимволическое… интуитивное и абстрактно-теоретическое. И одно из них проявляется через другое» [2. С. 201]. Строгое мышление начинается с Парменида (около 504-501 до н. э.), одновременно выступившего основателем рациональной онтологии. Такое совпадение не случайно, ибо парменидовское бытие было введено для того, чтобы стало возможным рациональное мышление. У Парменида бытие есть то, что «единственно мыслить возможно» [3. С. 295]. «Ибо то, чего нет, нельзя ни познать (не удастся), / Ни изъяснить…» [3. С. 296]. Единственная определенность парменидовского бытия заключается в том, что оно «есть». Причем «есть» - для мысли. При этом под мыслью подразумевается область понятийного логоса, а не сфера мнения. Логика Парменида различает лишь бытие и небытие, что приводит к тезису: бытие есть, а небытия нет (если бы небытие существовало, оно стало бы бытием). Иными словами, бытие есть предмет мысли, который обретается в сфере самой мысли и не допускает двояких толкований. Как отмечает Н. А. Мещерякова, «по существу бытие Парменида есть первый теоретический объект» [4. С. 19]. Обращение к Пармениду - это не дань философскому антиквариату, а осознание фундаментальной особенности, неизбывно сохраняющейся в классической онтологии. Бытие здесь делает возможной однозначную фокусировку мысли, а потому отвечает на вопрос «что?». Таким образом, классически понятое бытие есть не что иное, как сущее. Впоследствии это обстоятельство будет акцентировано Хайдеггером: «…“бытие” исстари именуется “сущим”, и наоборот, “сущее” - бытием, оба словно кружась в загадочной… подмене» [5. С. 201]. И еще одна важная деталь: хотя Парменид утверждает, что «мыслить - то же, что быть» [3. С. 296], он не является идеалистом. Идеализм означает, что многообразие вещей управляется мыслью, взятой в качестве первичного начала. Однако у Парменида бытие исключает соотнесение с миром движения и множественности. Бытие едино и единственно, любая трансформация исходного «есть» невозможна, поскольку она ведет к небытию, а последнего не существует. Философам еще предстояло создать онтологию, способную выразить космос - мировой порядок, удерживающий изменчивое сущее под властью целого. Космос воплощал бытийную гармонию, приобщение к которой было смыслом разумной жизни. «Говорят, что на чей-то недоуменный вопрос, чего ради предпочтительней родиться на свет, чем не родиться, Анаксагор отвечал: “Ради созерцания неба и порядка Вселенной”» [6. С. 513]. Первой была попытка Демокрита, который раздробил парменидовское бытие на осколки-атомы; в результате возникла множественность и появилась возможность движения. Однако, сводя вещи и человека к набору атомов, демокритовская концепция выносила за скобки вопрос о смысле вещей и их внутренней целостности. Решающим для развития онтологии стали концепции Платона и Аристотеля. Платон научил нас мыслить вещь путем перехода к ее идее, где целостность и смысл вещи выражались без утраты логической строгости. Однако вещь оказывалась лишь жалким подобием идеи: то, что носит имя вещей, «есть вечно возникающее, но никогда не сущее» [7. С. 432]. Это лишь «подражание вечносущему, отпечатки по его образцам…» [7. С. 453]. Платоновская рефлексия отодвигает мышление о вещах на онтологическую периферию, объявляя его не более чем «правдоподобным мифом» [7. С. 433]. Первую рационально выверенную онтологию вещей и их движения мы находим у Аристотеля. В отличие от Платона Аристотель видит в вещи полноценное осуществление идеальной формы [8. С. 246]. При этом бытие как таковое не фигурирует в качестве самостоятельного персонажа, выступая как «бытие чем-то», то есть как сущее[1]. Задачу выразить движение вещей, оставив неизменными идеи-сущности, Аристотель решает путем изящной и в то же время фундаментальной инновации. Выделив два модуса бытия - бытие в возможности и бытие в действительности, Стагирит рассматривает движение как переход из возможности в действительность, направляемый целью [8. С. 301, 246; 9. С. 100]. Именно с Аристотеля берет начало разграничение, которое в современных терминах выражается как отличие физики от метафизики. Однако современный и аристотелевский смыслы этого различения совпадают лишь частично. Во-первых, сам термин метафизика появился уже после Аристотеля в результате систематизации его трудов, когда соответствующий трактат был помещен после «Физики» как трактата о природе. Однако аристотелевская метафизика не отстранена от размышлений о природе (см.: [8. С. 198, 312-317]. Дело в другом. То, что мы сегодня называем метафизикой, Аристотель называет первой философией. Первая философия - сугубо умозрительная наука (см. [8. С. 181-182]), призванная «исследовать сущее как сущее» [8. С. 182], обращаясь к «первым началам и причинам» [8. С. 69]. Может показаться, что умозрительность античной онтологии дает повод усомниться в достоверности ее выводов. На самом деле нет ничего более далекого от античной философии, чем такой подход. Напротив, интеллектуальное созерцание выступает здесь как гарант онтологической достоверности. Античные мыслители видели в разуме отнюдь не индивидуальную человеческую способность. Разум для них - это рациональный порядок космоса, мировая структура, к которой причастна человеческая душа. Уже Платон считал, что «наш космос есть живое существо, наделенное душой и умом…» [7. С. 434], и стремление к подлинному бытию осуществляется как восхождение души к миру идей (cм. [10. С. 269]). И хотя Аристотель мыслил познание вещей несколько иначе, путь к первоосновам сущего у него столь же умозрителен, как у Платона. Первая философия (метафизика) - это онтология, обращенная к началам, знание которых необходимо для понимания фюзиса. А это означает внутреннее единство физики и метафизики на уровне исходных оснований. Легко увидеть, что в основе соответствующих аристотелевских трактатов лежат одни и те же категориальные схемы. Однако за этим единством скрывается ряд проблем, известных историкам науки, но не всегда артикулируемых в философских исследованиях. Если смотреть на ситуацию с позиции современного мышления, то античная картина природы не сводится к трактатам типа «Физики» и «Метафизики» и включает в себя астрономию (например, «Альмагест» Птолемея [11], дающий неплохую математическую точность при описании небесных явлений). Однако здесь на первый план выходит особенность, во многом определяющая возможности античной мысли. Дело в том, что, если вынести за скобки построения пифагорейцев, античная онтология в лице Аристотеля отторгает математику как способ описания природы: «…математической точности нужно требовать не для всех предметов, а лишь для нематериальных. Вот почему этот способ не подходит для рассуждающего о природе…» [8. С. 98]. Конечно, здесь возникает вопрос - как можно не замечать альтернативу пифагореизма, полагавшего, что «все небо есть гармония и число» [8. С. 76]. Сегодня принято вспоминать пифагорейцев как основоположников математического описания природы. Ситуация и впрямь такова, если упустить из виду специфические особенности пифагорейской программы, вкладывая в нее современный смысл. Но если мы обратимся к этим особенностям, то увидим радикальное отличие пифагорейского мышления от современного. Во-первых, пифагорейское число не есть число в современном смысле этого слова. Оно содержит в себе несколько измерений, из которых только одно тождественно обычному числу. Другое измерение - онтологическое, выражающее принципы космического порядка. Третье измерение - смысловое, нередко связанное с мистикой судьбы: «…такое-то свойство чисел есть справедливость, а такое-то - душа и ум, другое удача» [8. С. 75]. Например, четверица воспринималась как «неиссякаемой жизни источник» [12. С. 87]. Еще одно измерение пифагорейского числа можно назвать вещественным: пифагорейцы полагали, что единица существует во множестве экземпляров - «единицы, по их мнению, имеют [пространственную] величину» [8. С. 332]. Во-вторых, под числом пифагорейцы понимали исключительно натуральные числа, что привело к краху их онтологическую программу. Оказалось, что простейшие геометрические отношения не всегда могут быть выражены натуральным числом. Как отмечает В.С. Черняк, «для них этот факт имел не только математическое, но прежде всего космологическое значение, ибо под сомнение был поставлен… тезис о том, что вещи суть числа» [13. С. 33]. В-третьих, пифагорейский способ применения чисел для описания природы принципиально отличается от научного. Наука соотносит числа с природой не напрямую, а опосредованно - через физические модели и измеряемые величины. У пифагорейцев же имеет место прямое отождествление элементов числового и вещественного миров. Поэтому, если исходить из современных интуиций, альтернативой аристотелевского описания природы скорее выступает античная астрономия. Если законы подлунного мира не могут быть приведены к жесткому математическому порядку, то этого нельзя сказать о небесных телах, обладающих более благородной природой. Аристотель пишет о математической пауке, «которая ближе всего к философии», подразумевая учение о небесных светилах, ибо здесь исследуется сущность хотя и чувственно воспринимаемая, но вечная [8. С. 312]. И разве не пронизана математикой аристотелевская космология, представляющая движение небесных светил как вращение небесных сфер, материей которых служит эфир [14]? Правда, Аристотель не считал астрономию причастной к онтологии. Но что мешает нам отвлечься от античных стереотипов и, исходя из научного смысла, признать за астрономией статус небесной физики? Почему астрономия считалась всего лишь описанием явлений, но не описанием самой природы? Дело здесь не только в пренебрежении математикой, но и в устройстве астрономического описания, которое не позволяло онтологизировать себя в контексте античных представлений. Препятствием служил базовый сюжет античной онтологии: движение небес есть круговое движение, представленное через вращение небесных сфер, к которым прикреплены звезды и планеты. Однако наблюдаемые планеты движутся неравномерно. Аристотель видел несоответствие этого факта представлению о совершенстве небесных движений и пытался дать ему чисто качественное объяснение (см. [14. С. 316]). Но птолемеевская астрономия не могла ограничиться качественными соображениями. Она использовала математические расчеты, исходящие из принципа равномерного вращения каждой из небесных сфер. В этом контексте неравномерность планетного движения не могла быть описана вложенными друг в друга сферами, как это имеет место у Аристотеля. Приходилось вводить эпициклы, то есть представлять движение планеты через движение сферы, центр которой находится на поверхности другой вращающейся сферы. С математической точки зрения такое описание приносило достаточно точные результаты. И если вчитаться в высказывания Птолемея, возникает ощущение, что он был бы не прочь считать описываемые им движения вполне реальными: «…два другие раздела теоретической философии… можно назвать как бы гаданием, а не научным познанием; теологическую - потому что она трактует о вещах невидимых и не могущих быть воспринятыми, физическую же - вследствие неустойчивости и неясности материальных форм… Одна только математическая часть… доставляет… прочное и надежное знание…» [11. С. 7]. Однако встреча математизированной астрономии и онтологии не состоялась. Онтологизация описываемых в Альмагесте сферических движений была невозможна: ведь если бы сфера эпицикла была реальной, то она взламывала бы ее своим вращением. Как отмечает В. А. Бронштэн, «аристотелевские сферы никак не должны были пересекаться в пространстве, а потому не могли приходить в движение так, как того требовала все более усложнявшаяся с течением времени кинематика» [15. С. 223]. Заметим, что дело здесь не сводится к недостаткам геоцентризма. Аналогичная ситуация возникла бы и в гелиоцентрической модели, исходящей из примата равномерного движения небесных сфер. Онтологизация математически представленных небесных движений была невозможна, пока она связывалась не с движением самих светил, а с несущими их небесными сферами. Как замечает Койре, оказалось, что «математическая астрономия возможна, а математическая физика - нет» [16. С. 110]. Аналогичная ситуация имеет место и в средневековом мышлении о природе. Подведем некоторые промежуточные итоги. На первый взгляд, может показаться, что античной онтологии уделено слишком много внимания, если исходной задачей было нахождение подступов к решению современных проблем. Однако анализ античной мысли обнажил важный сюжет, нередко ускользающий от исследований, погруженных в хитросплетения современной физики. Дело не только в характере математического описания, которое служит исходным пунктом для гипотетической онтологизации. Важное значение имеют способы онтологизации, которые, будучи присоединены к этому описанию, делают возможной или, напротив, невозможной его проекцию в область бытия. Иначе говоря, вопрос в том, в каком качестве мы собираемся онтологизировать теоретический концепт. Здесь прямо-таки напрашивается параллель с трудностями интерпретации квантовой физики. Ясно, что неправомерно онтологизировать волновую функцию в виде некоего реального поля. Но означает ли это, что прямая онтологизация здесь вообще невозможна и лучше обойтись чисто гносеологической трактовкой? На наш взгляд, все зависит от того, какой тип бытия имеется в виду, и как, каким способом, проводится онтологизация. Переход от аристотелевской физике к ньютоновской означал, говоря словами Койре, «развенчание Космоса» [16. С. 16] и математическое описание природы. В этом контексте обычно подчеркиваются преимущества ньютоновского метода. На самом деле все обстоит не столь однозначно, даже если мы посмотрим на ситуацию глазами самого Ньютона. Новая физика позволяла дать точное описание индивидуальных траекторий. Зато аристотелевская физика была основана на принципе системной организации Вселенной. В ньютоновской физике такой принцип отсутствует и из нее не выводится. А потому Ньютон, провозгласив знаменитое «гипотез… не измышляю» [17. С. 662], при обсуждении устройства Вселенной, вынужден был ввести сугубо метафизический персонаж - пантеистического бога, отвечающего за организацию вещей. «Такое изящнейшее соединение Солнца, планет и комет не могло произойти иначе, как по намерению и по власти могущественнейшего и премудрого существа. <…> Сей управляет всем не как душа мира, а как властитель вселенной…» [17. С. 659]. Самое интересное то, что первичность системного принципа все же вернулась в физику, причем не в идеалистической форме. Речь идет об исходной симметрии, имевшей разную степень объективации на разных этапах развития Вселенной. В этом плане интересно замечание Д. В. Ширкова. Имея в виду спонтанные нарушения исходной симметрии, он указывает, что Стандартная модель основана на принципе «динамика из симметрии» [18. С. 588]. Новое время обретает не только новую физику, но и внутренне связанный с ней новый тип онтологии. Речь идет о представлении природы как объекта господства и покорения. Если средневековая культура направляла людей к преображению собственной души, то теперь человек вдохновляется идеей покорения внешнего мира. Эта идея сформировалась еще в эпоху Ренессанса, однако там она была связана с использованием магических средств в контексте герметической традиции. О смысловом родстве с магией напоминают строки Френсиса Бэкона: «Мы… понимаем магию как науку, направляющую познание скрытых форм на свершение удивительных дел…» [19. С. 233]. Теперь же речь шла о рационализированном овладении миром. Целью научного сообщества, провозглашенной Бэконом, стало «познание причин и скрытых сил всех вещей и расширение власти человека над природою, покуда все не станет для него возможным» [20. С. 509]. Однако платой за эту власть оказалось отчуждение разума от постигаемых основ бытия. В этом плане интересно сравнить внутренние проблемы новоевропейского эмпиризма и рационализма. Здесь работают два критерия: 1) достоверность начал, с которых начинается познание, и 2) надежность пути, ведущего от начала к теоретическому завершению. Для эмпиризма начало познания (эксперимент) достоверно, поскольку в опыте с нами говорит сама природа. Но нужно еще перевести язык опытных явлений на язык понятий, а эмпиризм не имеет для этого надежного метода. Для рационализма началом выступают принципы разума, а значит, переход к теории может быть осуществлен посредством надежной дедукции. Однако под вопросом оказывается достоверность выбранного начала: даже если исходные принципы выглядят несомненными (например, будучи пропущены через горнило критицизма), это - достоверность для разума. Но почему принципы, очевидные для разума, должны оказаться справедливыми для противопоставленной ему природы? Это и есть ключевая проблема новоевропейского рационализма. Ее не было в Античности, где разум органически соединял человека с природой. Теперь он противопоставлен ей как внешний властитель и вынужден платить за это гипотетическим статусом своих истин (см. [21. С. 165-230]). Само понимание сущности в некотором смысле раздваивается. Физика, говоря о своих сущностях, имела в виду предметы опытного познания. Метафизика, напротив, обретала свои сущности в умозрительной онтологии. Проблема единства физики и философской онтологии была решена Кантом. Мир научно постигаемого сущего обретается в возможном опыте, но формируется априорными принципами рассудка. «Без чувственности ни один предмет не был бы нам дан, а без рассудка ни один нельзя было бы мыслить. <…> Рассудок ничего не может созерцать, а чувства ничего не могут мыслить. Только из соединения их может возникнуть знание» [22. С. 70-71]. В контексте науки кантовский образ онтологии совпадает с тем, что мы называем физической реальностью. Научная онтология имеет своим истоком мир опыта, предметно сформированный трансцендентальным субъектом[2]. Кант считал принципы этого субъекта извечно заданными; последующее развитие науки привело к более свободному взгляду на онтологическое априори. По словам Эйнштейна, «мы вольны сами выбирать, из каких элементов строить физическую реальность» [24. С. 328]. Таким образом, единство разума и бытия оказалось восстановлено через конструктивное полагание: «Тот, кто хочет познать мир, должен вначале построить его… в себе самом» [23. С. 551]. Обычно подчеркивается, что, обосновав познаваемость опытно данного мира (вещей для нас), Кант провозгласил агностицизм, указав на непознаваемость вещей в себе. Однако такой агностицизм задает препятствия лишь в рамках философской рефлексии. Для науки, постигающей явления природы, кантовский подход означает, что все предметные области сформированы нашим разумом, а значит, принципиально познаваемы - «…мы сами вносим порядок и закономерность в явления, называемые нами природой…» [22. С. 513]. Кант, с одной стороны, по-новому объединил мышление и бытие, а с другой - науку и философию. Если наука исследует связи внутри мира явлений, то философия изучает способ формирования этих связей трансцендентальным субъектом. Однако, как это всегда бывает в истории мысли, решение одной проблемы неизбежно приводит к появлению других, еще более нетривиальных вопросов. Кантовская трактовка познания вполне соответствует сознанию физика-теоретика, постигающего возможные миры посредством теоретических конструкций. Однако естествоиспытатель тем и отличается от чистого математика, что его мышление связано с интуицией реальности. «Мы, - подчеркивал В. Гейзенберг, - хотим каким-то образом говорить о строении атома, а не только о наблюдаемых явлениях…» [25. С. 112]. Но чем дальше и глубже заходит познание природы, тем больше проявляется черта теоретической мысли: понятийное конструирование начинает заслонять исходные онтологические интуиции. Мысль вынуждена обретать чувство реальности, пробираясь сквозь дебри теоретических конструкций. Отсюда понятна исходная идея феноменологии Гуссерля - «zur Sache selbst» - «к самим вещам», туда, где существенное открывает себя в своей непосредственности. В обычном понимании сфера непосредственного отделена от сущности: явление отсылает к сущности, но не раскрывает ее. В гуссерлевском понимании феномен - это самоданность существенного содержания; феномен ни к чему не отсылает, он раскрывает себя в своей существенности. «...Для всякой сущности… может существовать …ее чистая самоданность» [26. С. 143]. Важно помнить, что феномен лежит вне классического противопоставления сущности и явления. Он также вне субъект-объектного отношения, где познающий противопоставляет себя познаваемому. Конечно, никто не отрицает роль конструкций в науке, но у их истоков всегда стоит мир феноменов. Однако Гуссерль связал феномены исключительно со сферой сознания. Для Хайдеггера это означало заключение бытия в «камеру сознания» [27. С. 62], и он предпринял попытку построения новой феноменологической онтологии. Она исходит не из феноменов сознания, а из феноменов бытия. У Хайдеггера мы видим первую после Платона и Аристотеля попытку выразить органическое единение мышления и бытия. У Канта бытие есть заданный мыслью и противопоставленный ей объект. Хайдеггеровское бытие исходно для мысли, но не в качестве объекта, а в виде горизонта нетематизированных возможностей; мысль в своих истоках есть «мышление бытия» [5. С. 40-41]. Однако это бытие невыразимо в виде чтойности и не может быть схвачено объективирующими формами научного мышления. Это рождает впечатление противопоставленности хайдеггеровской онтологии и науки, особенно если рассматривать некоторые хайдеггеровские высказывания, вырывая их из контекста всего учения. На самом деле все гораздо сложнее. Хайдеггер противопоставляет свой подход не научному познанию как таковому, с присущими ему творческими прозрениями, но науке как системе рационально выраженных результатов. Мир, осмысленный сквозь призму научных результатов, сводится к соотношению между рациональными предметностями; здесь теряется из виду горизонт нерационализированных смысловых возможностей, открывающийся через причастность мышления бытию. Принципиально важно различение бытия и сущего: хайдеггеровское бытие не предметно, это ничто из сущего, открытость как таковая [5. С. 204]. Данную позицию нередко квалифицируют как иррационалистическую, что не соответствует воззрениям самого Хайдеггера. Иррационализм трактует бытие как нечто чуждое рациональности, нарушающее рациональную гармонию. У Хайдеггера индуцированный просветом бытия выход за пределы наличной логики, ведет не к отрицанию логики, но к новым ее тематизациям. «Думать наперекор “логике” не значит идти крестовым походом в защиту алогизма, это означает лишь: задуматься о логосе и о его явившемся в раннюю эпоху мысли существе…» [5. С. 211]. Будучи невыразимым в терминах чтойности, бытие обеспечивает смысловую открытость сущего, то есть возможность понимания, выходящую за пределы заданной чтойности к новым, логически не запрограммированным смыслам. Такое понимание - не продукт психологических ассоциаций, а онтологический феномен (см. [27. С. 123-124]). Именно здесь кроются основы нового осмысления науки в ее единстве с философской онтологией. Непредметное, нетождественное сущему бытие открывает себя в истоках философии и науки. Разница в том, что философская рефлексия имеет интерес к тематизации этого несводимого к чтойности бытия. Напротив, научное познание ставит своей задачей представить природу в терминах рациональных чтойностей, что заслоняет непредметные истоки познания. Об этом в свое время (можно сказать, «параллельно» Хайдеггеру) задумывался и Гуссерль. Научные теории представляют природу в одеянии идей. Рождение этих идей имеет своим истоком жизненный мир - смысловой горизонт, инициирующий разные способы рационализации[3]. Одеяние идей… или одеяние символов, символико-математических теорий …заменяет собой жизненный мир, переоблачает его под видом “объективно действительной и истинной” природы» [29. С. 78]. Однако Гуссерль не раскрывает онтологическое измерение жизненного мира, в то время как хайдеггеровская мысль дает ключ к онтологическим истокам научных инноваций. Подведем промежуточные итоги. Наука и философия имеют общие онтологические истоки, что выводит нас к новому кругу вопросов. Сегодня физика и философская онтология предстают как отличные друг от друга концептуальные системы. Самая распространенная форма их сопряжения - это философско-онтологическая интерпретация физических понятий. Но интерпретации могут быть разными, в том числе искусственными и произвольными. Каковы критерии адекватной философской интерпретации? Этот вопрос особенно актуален сегодня, когда умножение интерпретаций нередко происходит без критического осмысления их истоков и логических возможностей. Здесь одинаково опасны и философский догматизм, и увлечение вдохновляющими смыслами, оторвавшимися от рационального обоснования. II. Способы философско-онтологической интерпретации физики и связанные с ними проблемы Интерпретация, исходящая из заданной философской системы. Этот метод истолкования науки родился в эпоху, когда претензии физики ограничивались объяснением конкретного круга явлений, в то время как философский рационализм претендовал на полноту истины и объяснение мира в целом. Наиболее ярко подобный подход выражен у Гегеля. Согласно Гегелю, философскую логику «следует понимать как систему чистого разума, как царство чистой мысли. Это царство есть истина, какова она без покровов, в себе и для себя самой. …Это содержание есть изображение бога, каков он в своей вечной сущности, до сотворения природы и какого бы то ни было конечного духа» [1. С. 103]. В физике же «особенное содержание находится… вне всеобщего и… не имеет в самом себе необходимой связи» [30. С. 21]. Принятие этой позиции ведет к тому, что научная картина реальности заслоняется, а то и подменяется умозрительной философской онтологией. В начале XIX в. такой подход имел свои резоны, ибо физика того времени даже не планировала создание единой теории, в том числе теоретической космологии. Отсюда - некоторое интеллектуальное высокомерие классических философов по отношению к физике и вообще к естествознанию. Такого рода философский снобизм нередко приводил к ошибкам, связанным с попытками навязать естествознанию чуждый ему спекулятивный способ рассуждений. Отсюда понятна попытка Огюста Конта создать новую философию науки, независимую от философской рефлексии. Позитивизм: забвение онтологии и жесткая демаркация философии и науки. Название нового учения говорило о позитивном отношении к науке, о необходимости обосновывать ею философские суждения. Однако здесь скрывалась своего рода интеллектуальная ловушка. Философия, обращаясь к природе, вместе с тем обращена и на самое себя, рефлектируя свои истоки и методы. Естественнонаучное мышление начала XIX в., напротив, было обращено исключительно на внешний объект, на природу, и этот акцент отодвигал в сторону смысловые и методологические проблемы науки. Только к 30-м гг. XX в. внутринаучная рефлексия стала приближаться к уровню философской (см. [31]). Что касается Конта, то он исходил из позитивного отношения к поверхности науки, а не к ее внутренней глубине, ускользающей от современного ему научного сознания. Согласно позитивизму, наука идет к истине, «отказываясь открывать первопричину» [32. С. 74]. Тот же подход мы видим и в неопозитивизме: «в науке нет никаких “глубин”; везде только поверхность…» [33. С. 17]. А если так, то любая попытка выявить в науке доселе неопознанную смысловую и методологическую глубину воспринималась как «приклеивание» к науке чуждых ей метафизических сюжетов (отсюда - принцип демаркации, разделяющий философию и науку). Вместо философской интерпретации мы видим здесь попытку свести философскую рефлексию к методам самой науки. В философии науки эта трактовка была преодолена постпозитивизмом, однако само преодоление оказалось весьма односторонним. Постпозитивизм: признание метафизических основ науки через дезактивацию их онтологического статуса. Постпозитивисты увидели в науке присутствие метафизических структур, однако не сочли эти структуры воспроизведением самого бытия. Характерна позиция Куна. Признавая наличие теоретической онтологии и «метафизических частей парадигм» [34. С. 240], он никоим образом не связывает их с реальной действительностью: «… представления о соответствии между онтологией теории и ее “реальным” подобием в самой природе кажутся мне… в принципе иллюзорными» [34. С. 264]. Научный реализм: прямая объективация теоретических схем. Существует множество трактовок научного реализма, но сейчас нас интересует только его общая суть. Она прекрасно выражена словами Х. Патнема: «Положительный аргумент в пользу реализма - то, что это - единственная философия, которая не делает успех науки чудом» [35. P. 73]. Однако обращение к внутреннему устройству теоретических описаний показывает, что на самом деле все гораздо сложнее. Успех в предсказаниях экспериментальных результатов еще не означает однозначное соответствие самой реальности. Например, в теоретической физике фигурируют потенциалы, обладающие, по выражению Е. Вигнера, информационной «избыточностью» [36. С. 41]. Аналогичная особенность присуща и волновой функции (вероятность событий представлена не самой волновой функцией, а квадратом ее модуля). Однако фундаментальные законы микромира могут быть выражены лишь с помощью этих информационно избыточных величин, которые невозможно однозначно спроецировать на объективную реальность (см. [37]). В общем плане недостаток научного реализма состоит в забвении того обстоятельства, что теоретические объекты имеют два измерения. С одной стороны, это нечто, с чем имеет дело научное мышление (отсюда - возможность онтологизации), а с другой - это «нечто» есть теоретический инструмент, предметная свертка теоретических операций, необходимая для их эффективного осуществления. Конечно, через эти операции раскрывается исследуемая реальность, однако вопрос в том, как отделить онтологическое содержание от чисто операционального. Этот вопрос нередко решается односторонне: либо теоретические объекты напрямую истолковываются как «то, что есть на самом деле», либо теоретическая картина трактуется в операциональных терминах, безотносительно к онтологической проблематике. Строгость теории и экзотика интерпретаций. В современных теориях нередко обнаруживаются структуры, представленные в терминах объектов, но не поддающиеся прямому истолкованию исходя из идеи объективной реальности. Отсюда понятны попытки интерпретации современных теорий путем привлечения экзотических (с точки зрения науки) идей и представлений. Гейзенберг допускал возможность «взаимосвязи традиционных представлений Дальнего Востока с философской сущностью квантовой теории» [25. С. 127-128], а Капра пошел еще дальше, напрямую связывая квантовую теорию с мистикой Востока [38]. Существуют также экзотические интерпретации в терминах европейских философских учений. Прежде чем приветствовать (или, напротив, с ходу отвергать) такого рода попытки, нужно задуматься над тем, какие критерии лежат в основе нашей оценки. Уже в начале XX в. стало ясно, что новая физика требует необычных, или, как говорил Бор, «безумных» идей. Это может быть справедливо не только для новых теоретических схем, но и для их онтологических интерпретаций. Вот только нужно понимать, что инновации, которые имел в виду Бор, кажутся безумием лишь с позиции старой парадигмы. Для науки «безумство новизны» ценно не само по себе, а как предпосылка новой рационально выверенной гармонии. Обретая статус истины, экзотическая инновация интегрируется в систему теоретических связей и неизбежно превращается в «домашнего» теоретического персонажа. То же самое справедливо и для философских интерпретаций. Здесь уместны два взаимосвязанных критерия. Интерпретационный посыл может выглядеть весьма необычно, но он оправдан, если приводит к пониманию теории, значимому как для философии, так для самой науки. В данном случае работает идущий от Канта трансцендентальный способ обоснования: оправданы такие интерпретирующие идеи, которые востребованы внутренними проблемами теории и стимулируют реализацию ее логических возможностей. Но есть и отличие излагаемого метода от того, который использовался самим Кантом. Кантовское априори оправдывается тем, что раскрывает себя как предпосылка проверенных опытом законов природы. Напротив, необычное интерпретационное априори, о котором шла речь выше, получает оправдание через инициированное им развитие теории. Кроме того, существуют критерии для философских идей, используемых в онтологических интерпретациях. Во-первых, идеи должны быть извлечены из философской системы, смысловая глубина которой может быть согласована с научным мышлением. Во-вторых, нужно найти для этих идей способ выражения, который позволит соотнести их с конкретными теоретическими схемами, не прибегая к искусственным приемам и произвольным допущениям. В свое время В.С. Степин рассматривал развитие теории через конструктивную адаптацию новых понятий к данным опыта [39]. В нашем случае речь идет об адаптации интерпретационного априори к теоретической структуре. Философская онтология как результат метафизической возгонки физических понятий. Выше мы говорили о научном реализме как попытке увидеть в теории структуры самой реальности. Эта реальность и в самом деле представлена в теории, весь вопрос в том, как выделить ее собственный образ из инструментальных приемов и математических схем. В таких ситуациях мысль обращается за помощью к метафизике, но сегодня эта помощь, как правило, запаздывает. Тут играют роль два обстоятельства. Во-первых, философия может эффективно помочь физику лишь в том случае, если она живет в его собственном мышлении, а не пришла к нему извне, в виде философа, не овладевшего хитросплетениями теоретических понятий (см. [40]). В свою очередь, физикам иногда бывает сложно понять все тонкости современной философской онтологии. И тут может возникнуть вопрос - а так ли нужны эти усилия? Ведь современная теоретическая физика в своих поисках нередко опережает самое развитое философское воображение. В этих условиях рождается новый, ранее неизвестный выход к построению философской онтологии. Камнем преткновения для научного реализма является невозможность прямой онтологизации всей системы теоретических объектов. Но можно переосмыслить задачу, сделав целью предварительное выделение общих онтологических оснований. Сложность в том, что эти основания придется вычленять из научной теории. Суть подхода состоит в выделении таких конструктов, которые способны выступить внутритеоретическим эквивалентом общих онтологических представлений. Такие конструкты переводятся из разряда научных (и иногда чисто инструментальных) понятий на уровень основ новой онтологии. Эту трансформацию можно назвать метафизической возгонкой физических понятий. К пробным формам новой онтологии можно отнести фейнмановские интегралы по траекториям [41], идею Эверетта о многомировой квантовой реальности [42], программу К. Ф. фон Вайцзеккера (см. [43]). В отечественной науке мы находим выдвинутую Ю.И. Кулаковым теорию физических структур [44] и развиваемую Ю.С. Владимировым геометризацию физики [45]. Исходя из самых общих соображений, можно отметить следующее. Такого рода построения несут в себе не только эвристический заряд, но и проблемы, решение которых требует явного использования философских методов. Мысль, проложив дорогу от физики к новым метафизическим вершинам, должна на них закрепиться, а сделать это можно только философскими средствами. Логика проведенного анализа подводит к необходимости показать пример интерпретации определенной теории исходя из незадействованных до сих пор философских оснований. У автора имеются идеи на этот счет [46; 47], однако они требуют специального рассмотрения и не могут быть изложены в данной статье в силу исчерпанности ее объема.×
Об авторах
Сергей Николаевич Жаров
Воронежский государственный университетдоктор философских наук, доцент кафедры онтологии и теории познания факультета философии и психологии Российская Федерация, 394000, Воронеж, проспект Революции, 24
Список литературы
- Гегель Г.В.Ф. Наука логики: в 3 т. М.: Мысль, 1970. Т. 1. 501 с.
- Кессиди Ф.Х. От мифа к Логосу: становление греческой философии. М.: Мысль, 1972. 312 с.
- Парменид. О природе // Фрагменты ранних греческих философов. М.: Наука, 1989. Ч. I: От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики. С. 295-298.
- Мещерякова Н.А. Детерминизм: история и современность: автореф. дис. … д-ра филос. наук / Воронежский гос. ун-т. Воронеж, 1998. 44 с.
- Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. М.: Республика. 1993. 447 с.
- Фрагменты ранних греческих философов. М.: Наука, 1989. Ч. 1: От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики. 576 с.
- Платон. Тимей // Платон. Собр соч.: в 4 т. М.: Мысль, 1994. Т. 3. С. 421-500.
- Аристотель. Метафизика // Аристотель. Соч.: в 4 т. - М.: Мысль, 1975. Т. 1. С. 63-367.
- Аристотель. Физика // Аристотель. Соч.: в 4 т. М.: Мысль, 1981. Т. 3. С. 59-262.
- Платон. Государство // Платон. Собр. соч.: в 4 т. М.: Мысль, 1994. Т. 3. С. 79-420.
- Птолемей К. Альмагест, или Математическое сочинение в тринадцати книгах. М.: Наука - Физматлит, 1998. 671 с.
- Пифагорейские Золотые стихи с комментарием Гиерокла. М.: Алетейа; Новый Акрополь, 2000. 160 с.
- Черняк В.С. Оппозиция арифметики и геометрии в античной философии и математике // Научный прогресс: когнитивный и социокультурный аспекты. М.: Ин-т философии РАН, 1993. С. 27-45.
- Аристотель. О небе // Аристотель. Соч.: в 4 т. М.: Мысль, 1981. Т. 3. С. 263-378.
- Бронштэн В.А. Клавдий Птолемей: II век н. э. М.: Наука, 1988. 240 с.
- Койре А. Очерки истории философской мысли: О влиянии философских концепций на развитие научных теорий. М.: Прогресс, 1985. 286 с.
- Ньютон И. Математические начала натуральной философии. М.: Наука, 1989. 688 с.
- Ширков Д.В. 60 лет нарушенным симметриям в квантовой теории (от теории сверхтекучести Боголюбова до Стандартной модели) // Успехи физических наук. 2000. Т. 179. № 6. С. 581-589.
- Бэкон Ф. Великое восстановление наук // Бэкон Ф. Соч.: в 2 т. 2-е изд., исп. и доп. М.: Мысль, 1977. Т. 1. С. 55-522.
- Бэкон Ф. Новая Атлантида // Бэкон Ф. Соч.: в 2 т. 2-е изд., исп. и доп. М.: Мысль, 1978. Т. 2. С. 483-518.
- Косарева Л.М. Рождение науки Нового времени из духа культуры. М.: Ин-т психологии РАН, 1997. 360 с.
- Кант И. Критика чистого разума. М.: Мысль, 1994. 591 с.
- Кант И. Opus postumum // Кант И. Из рукописного наследия. М.: Прогресс-Традиция, 2000. С. 321-588.
- Эйнштейн А. Письмо Г. Сэмьюэлу от 13.10.1950 // Эйнштейн А. Собр. науч. трудов: в 4 т. М.: Наука, 1967. Т. IV. С. 327-330.
- Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. М.: Наука, 1989. 400 с.
- Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Т. 1. М.: Дом интеллектуальной книги, 1999. 336 с.
- Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Ad Marginem, 1997. 452 с.
- Жаров С.Н. Жизненный мир как исток всех теоретически возможных миров (трансценденция непредметного бытия в структуре научного мышления) // Теоретическая виртуалистика: Новые проблемы, подходы и решения. М.: Наука, 2008. С. 55-78.
- Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология: введение в феноменологическую философию. СПб.: Университет: Владимир Даль, 2004. 400 с.
- Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук: в 3 т. М.: Мысль, 1975. Т. 2. 695 с.
- Бажанов В.А. Наука как самопознающая система. Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1991. 182 с.
- Конт О. Дух позитивной философии. (Слово о положительном мышлении). Ростов-наДону: Феникс, 2003. 256 с.
- Карнап Р., Ган Г., Нейрат О. Научное миропонимание - Венский кружок // Логос. 2005. № 2. С. 13-27.
- Кун Т. Структура научных революций. 2-е изд. М.: Прогресс, 1977. 301 с.
- Putnam H. Mathematics, matter and method. Philosophical Papers. Cambridge: Cambridge University Press, 1975. Vol. 1. XIV + 364 p.
- Вигнер Е. Этюды о симметрии. М.: Мир, 1971. 318 с.
- Жаров С.Н. Калибровочные преобразования и избыточное содержание физической теории // Философские проблемы классической и неклассической физики: современная интерпретация. М.: Ин-т философии РАН, 1998. С. 138-157.
- Капра Ф. Дао физики: исследование параллелей между современной физикой и мистицизмом Востока. СПб.: ОРИС, 1994. 302 с.
- Степин В.С. Структура теоретического знания и историко-научные реконструкции // Методологические проблемы историко-научных исследований. М.: Наука, 1982. С. 137-172.
- Терехович В.Э. Действительно ли философия слишком важна для физики, чтобы оставлять ее на откуп философам? // Метафизика. 2020. № 1. С. 8-29.
- Фейнман Р., Хибс А. Квантовая механика и интегралы по траекториям. М.: Мир, 1968. 383 с.
- Everett III H. «Relative State» Formulation of Quantum Mechanics // Review of Modern Physics. 1957. Vol. 29. N 3. P. 454-462.
- Севальников А.Ю., Родина А. В. Реляционная программа построения физики К.Ф. фон Вайцзеккера // Метафизика. 2020. № 2. С. 131-143.
- Кулаков Ю.И. Теория физических структур. Новосибирск: Альфа Виста, 2003. 880 с.
- Владимиров Ю.С. Геометрофизика. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. Глава 15. Метафизический анализ геометрофизики. С. 486-521.
- Жаров С.Н. Онтология возможного и способы ее выражения (в контексте квантовой физики) // История и философия науки в эпоху перемен: сб. научных статей: в 6 т. М.: Русское о-во истории и философии науки, 2018. Т. 2. С. 24-26. URL: http://rshps.ru/books/ congress2018t2.pdf (дата обращения: 30.05.2021).
- Жаров С.Н. Онтология возможного: Аристотель и современная наука // Наука как общественное благо: сб. научных статей: в 7 т. М.: Изд-во «Русское о-во истории и философии науки», 2020. С. 112-114. URL: http://rshps.ru/books/congress2020t1.pdf (дата обращения: 30.05.2021).
Дополнительные файлы